Визбор - [6]
(«Сретенский двор»)
Как, кстати, невольно и неожиданно пробился в этих московских строчках намёк на прибалтийские корни, на связь с отцовской судьбой: «памяти дюны». Дюны — это ведь на балтийском побережье. Каждый раз, когда взрослый Юрий Визбор будет приезжать — по журналистским или ещё каким-то делам — в Литву (она, как и другие упоминаемые в этой книге республики — Латвия, Украина, Казахстан, Азербайджан… — не была тогда самостоятельным государством и входила в состав Советского Союза), он будет в глубине души ощущать свою связь с этой землёй. «Какие-то смутные махровые чувства, — полушутя-полусерьёзно заметит он однажды перед вильнюсской публикой, — появляются, изнутри поднимаются, когда едешь и смотришь на литовские пейзажи».
В 1982 году, в год своего инфаркта, 48-летний Визбор, интуитивно ощущая переход на финишную прямую жизни, оставит в своих бумагах пронзительный стихотворный набросок, где скрестятся украинские и прибалтийские корни поэта. В нём неожиданно возникает перекличка с известной в своё время песней на стихи Владимира Луговского и Евгения Долматовского, написанной по поводу «освобождения» в 1939 году Красной армией Западной Украины и Западной Белоруссии от поляков («Белоруссия родная, Украина золотая…»).
А главное — звучат несомненные ассоциации с судьбой расстрелянного отца:
Однажды в квартиру на Сретенке придёт большая посылка из Америки: живущий там дед, каким-то (каким?..) образом узнав московский адрес невестки и внука, пришлёт заграничные деликатесы: тушёнку и масло в металлических банках, шоколад в такой красивой упаковке, что хотелось съесть и её… Живя в коммуналке, было как-то неудобно есть всё самим — поэтому угощали и соседей. Несмотря на постоянное недоедание, продуктов было не жаль — не хотелось только отвечать на излишние вопросы. Известный провокационный пункт тогдашних анкет: «Имеете ли родственников за границей?» — всех пугал, и положительный ответ на него был чреват большими неприятностями. Слава богу, соседи, в биографии которых тоже хватало «сомнительных», с точки зрения властей, эпизодов (у кого тогда их не было!), всё прекрасно понимали и лишних вопросов не задавали. Тем более что так вкусно…
Между тем в доме теперь вместо отца — отчим, Иван Кузьмич Ачитков, выходец из простых, но работающий в Госкомитете по строительству. По возрасту — заметно старше мамы. Хорошего от него не жди: на подростка внимания почти не обращает, а если обратит — может и руку приложить. Мать, вышедшая за него в надежде обрести какую-то жизненную опору, теперь как будто между двух огней… Но лучше и не маячить, не накалять и без того напряжённую атмосферу.
Да и что сидеть дома? Во дворе, например, всегда есть чем заняться. Дворы послевоенных лет — это целый мир, общая жизнь, где все всё друг про друга знают, где на глазах многочисленных соседей люди ссорятся, мирятся, играют за самодельным дощатым столиком в карты и домино, по вечерам устраивают танцы под вынесенную из дома радиолу, выпивают, закусывают, влюбляются, женятся, разводятся, выясняют отношения, и вообще чего только не увидишь…
Криминала уж точно хватает. Ведь двор — это ещё и компании шпаны, стычки между ними, «борьба за влияние», популярный в те годы уголовный фольклор, вроде «Мурки» или «Постой, паровоз, не стучите колёса…». В мутной воде послевоенной московской жизни, при нехватке подготовленных милицейских кадров, было раздолье для уголовщины всех мастей. К тому же после войны в городе оказалось немало оружия, не только холодного, но и горячего — трофейного, привезённого тайком с фронта. Знаменитую впоследствии песенную фразу Высоцкого «Где твой чёрный пистолет?» могли в ту пору произнести многие московские ребята; даже у Юры одно время был спрятан немецкий парабеллум, подаренный штурманом из Ленинграда Юриком, вроде как ухаживавшим за Юриной тёткой. Так что в карманах у послевоенной шпаны всегда что-то есть: если не наган, то заточка или гирька на верёвке. В общем, в тёмном переулке лучше не встречаться. Особенно опасным местом считался Сретенский тупик, примыкавший к «Иностранке» — выходившему торцами на Панкратьевский переулок и на Садовое кольцо кварталу однотипных жилых зданий, построенных для работавших в СССР иностранных специалистов. Таковых, правда, оставалось всё меньше, ибо многие из них были посажены ещё до войны; теперь, в 1940-х, в этих домах преобладали уже советские граждане.
Сочиняя в 1983 году одну из самых поздних своих песен — «Волейбол на Сретенке», — Визбор не без иронии перечислит имена реально существовавших сретенских парней-волейболистов: Владик Коп, Макс Шароль, Саид Гиреев, Серёга Мухин — целый интернационал, если ещё и самого Визбора добавить! В стране между тем в конце 1940-х годов набирает обороты кампания по «борьбе с безродными космополитами». Власти преследуют людей с еврейскими фамилиями, отвлекая этим внимание населения от реальных социальных проблем послевоенной страны: мол, вот кто вредит и мешает спокойно жить и трудиться… Но на волейбол и вообще на дворовую жизнь и дружбу это, слава богу, не влияет. Простые люди мудрее, чем думают о них власти: соседи-то прекрасно видят, что Коп и Шароль — никакие не враги, а обычные ребята, такие же как все. Так вот, в этой песне поэт изобразит навсегда врезавшуюся в его память картину, чуть не обернувшуюся поножовщиной между двумя местными «авторитетами», Колей Зятем (дворовые прозвища тогда обычно образовывались от фамилии, так что Коля на самом деле — никакой пока не зять, а просто Зятьёв) и настоящим персом (интересно, откуда он взялся в Москве?) Лёвой Ураном:
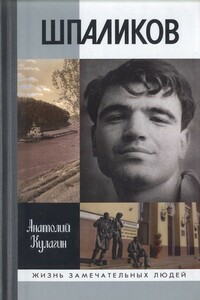
Книга представляет собой первое подробное жизнеописание Геннадия Шпаликова (1937–1974) — кинодраматурга, поэта, прозаика, одного из самых ярких художников эпохи «оттепели», автора сценариев культовых фильмов начала 1960-х годов — «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве». В основе биографии — воспоминания современников, архивные документы, беседы автора с друзьями и близкими главного героя книги. знак информационной продукции 16+.
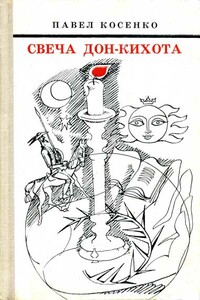
«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.