Виртуальные книги - [4]
Русский язык, увы, любит походя бросаться этим словом, которое стоило бы употреблять, может быть, несколько раз в жизни, а лучше и вовсе не употреблять, чтобы избежать лжи и пустословия. Как нельзя упоминать имя Господа всуе, так и слово «всё» требует наибольшей осторожности, потому что оно, в сущности, синонимично имени Бога, но пишется с маленькой буквы и потому особенно уязвимо.
«Быть иль не быть?» — известный гамлетовский вопрос. Но есть и другой, метафизически не менее важный: быть или БЫ?
«Быть или не быть» связаны простым отрицанием, тогда как между «быть» и «бы» — отношение более глубокое. «Бы» — животрепещущая возможность, скрытая в бытии, но к нему не сводимая, рвущаяся из него, как птица из клетки. «Бы» возникает по ту сторону «быть или не быть», как общая им, кратчайшая и кротчайшая частица… То, что только возможно, может быть, а может и не быть, «бы» — их общий корень. И вот в этом трепете между «быть» и «не быть», в этом «бы», как чистой возможности, как раз располагается наш основной душевный опыт: надежда, вера, любовь, страх, сомнение… «Бы» — то острие, на котором все качается, та нить, на которой все подвешено, те дрожжи, которые оживляют всю массу бытия и весь вакуум небытия, взаимно пронзая их свежими пузырьками возможностей.
«Или да, или нет, или может быть», как говорят в Одессе. «Возможность» — глубочайшая категория народного мировоззрения. «Может быть» — и есть главное, маета и маятник, откуда уже дальше, в крайних точках остановки и поворота маятника, образуются «да» и «нет». «Да» — это только точка поворота от «бы» к «нет», а «нет» — точка поворота от «бы» к «да».
Если бы гетевский «Фауст» писался по–русски, он бы лишился одного из главных своих эпизодов. Фауст бьется над переводом первой строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». «Слово» его не устраивает своей бесплотностью, отвлеченностью. После долгих колебаний он решает: «В начале было дело». Но в славянских языках есть еще «глагол», т. е. слово–действие, слово о действии и действие словом. Eсли бы Фауст переводил Евангелие от Иоанна на русский, ему не пришлось бы ломать голову над тем, выбирать «дело» или «слово». Он бы перевел: «В начале был Глагол».
Из книги «Введение в археософию»
Книга ощутимо становится архаическим объектом. Ее бумажно–пыльный запах, желтеющие страницы, сама ее материальность — признаки какой–то исчезающей цивилизации. Ходишь среди библиотечных стеллажей — и чувствуешь себя как будто в Вавилоне или Древней Греции, хотя тогда и книг–то в современном смысле не было. В жанре книги еще можно творить раритеты, произведения книжного искусства, но цивилизация уже покинулa это место. Глаза привыкли к эфирному пространству экрана, к бисерной россыпи электронных букв. Книжные шкафы, ряды корешков с тиснеными заглавиями, — все это реликтовый слой в домашнем пейзаже, вроде бабушкиных нарядов или старинной мебели, — зона будущих археологических раскопок.
Не станет ли со временем архаическим объектом и само тело? Сведенное к записи генетической формулы, оно станет передаваться по электронным сетям с терминала на терминал. В нашей цивилизации книга родственна телу, соприродна ему, поскольку некая информация — генетическая или языковая — занимает место в пространстве, обладает плотностью, инертностью, непроницаемостью для других тел. Но если информация вычитывается–вычитается из плоти книги и начинает странствовать в виде каких–то кодовых матриц или электронных пучков, перебегая с экрана на экран, то и само тело, как трехмерный пространственный объект, воспринимается уже как пережиток прошедших эпох. С исчезновением книги начинает исчезать и тело.
Американцам, наиболее продвинутым по части телевидения, интернета и всех дальних, электронно–цифровых способов коммуникации, психологически все труднее прикасаться друг к другу. В самом жесте прикосновения чувствуется его архаичность, неадекватность той знаковой субстанции, какую люди собой представляют. Люди становятся все менее телесными, утрачивают ощущение боли и удовольствия. Вместо болящих органов — бесчувственные протезы, хирургические вставки, транспланты; вместо удовольствия — здоровье… Прикасаться к другому в знаковом обществе — все равно как читать книгу, шевеля губами и водя пальцем по строкам.
В России было жалко людей, а в Америке жалко книг, текстов, настолько они представляются ненужными, невостребованными. Ведь на эти–то буквы и тратится человеческая жизнь, надеясь обрести бессмертие. И вот само это бессмертие желтеет, пылится. И мало кто заглядывает на эти страницы, а если и заглядывает, то забывает, а если не забывает, то сам умирает, и уже в следующем поколении будут помнить два–три человека, а потом и они умрут. И это — бессмертие? И ради этого надо было засушивать всю свою жизнь в гербарий букв — чтобы и они рассыпались вместе со страницами?
Не только рукописи горят, но и буквы тлеют на том медленном огне, который называется «время». Ох уже эти существительные на «-мя». Имя… время… бремя… пламя… Что же делать? Убегать от моря, от гор, от путешествий, от людей, от радостей — чтобы бросить еще несколько слов в копилку, чтобы потрясти ее, вслушаться в звон своего будущего «собрания»… Писатель скупее рыцаря, все превращает в слова, а они стареют и тускнеют куда быстрее золота. Нельзя без содрогания глядеть на эти печатные страницы — тлен и прах самого бессмертия.
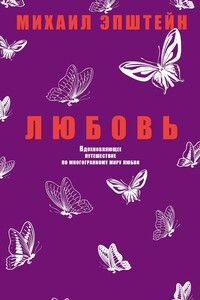
Многомерный мир любви раскрывается в книге Михаила Эпштейна с энциклопедической широтой и лирическим вдохновением. С предельной откровенностью говорится о природе эротического и сексуального, о чувственных фантазиях, о таинствах плотского знания. Книга богата афористическими определениями разных оттенков любовного чувства. Автор рассматривает желание, наслаждение, соблазн, вдохновение, нежность, боль, ревность, обращась к идеям диалогической и структуральной поэтики, экзистенциальной психологии, философской антропологии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
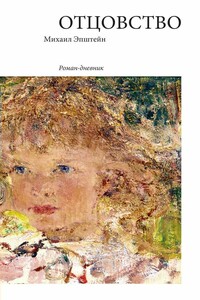
Автор книги «Отцовство» — известный философ и филолог, профессор университетов Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, «дословесный» еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца.

Культурологические рассуждения 1998 г. об усиливающейся виртуализации русского сознания — от русского киберпанка, литературоцентризма и литературоненавистничества Рунета через модус «как бы»-мышления и цитатность Интернет-дискурса к распыленному гиперавторству всемирного Текста.Опубликовано в «Русском журнале» в 1998 г.
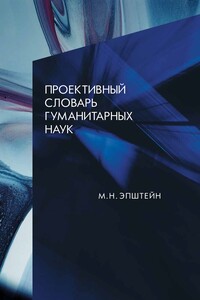
Словарь содержит системное описание понятий и терминов гуманитарных наук, включая философию (в том числе этику и эстетику), культурологию, религиоведение, лингвистику, литературоведение, а также гуманитарные подходы к природе, истории, обществу, технике. Словарь состоит из 440 статей, размещенных в 14 тематических разделах в алфавитном порядке. Особое внимание уделяется развитию новой терминологии, отражающей культурно-социальные процессы ХХI века и методы интеллектуального творчества. Автор и составитель Словаря – известный российско-американский культуролог, философ, филолог Михаил Эпштейн, профессор университета Эмори (США) и почетный профессор Даремского университета (Великобритания)

У фантаста, как у поэта, есть свой «черный человек». Облик его не всегда мрачен: сейчас, когда над робкой еще зеленью мая плещется яркий кумач, на лице незваного гостя простецкая улыбка своего парня, а в словах добродушный укор: «Послушай, не тем ты, брат, занят, не тем! Пишешь о небывалых мирах, куда попадают твои выдуманные герои, странствиях во времени, каких-то разумных кристаллах и тому подобной сомнительности. Да кому это надо?! Бредятина все это, ей-ей… Ты оглянись, оглянись! Кругом делается настоящее дело, варится сталь, выращивается хлеб, солнышко светит, люди заняты земным, насущным, это жизнь, а ты витаешь… Куда это годится!».
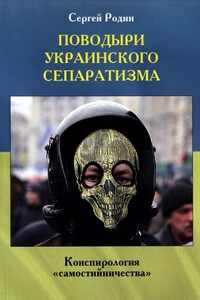
Издательство Русского Имперского Движения представляет очередной труд С.С. Родина, публициста, критика «украинства» как русофобской подрывной идеологии, автора известных книг «Отрекаясь от русского имени. Украинская химера» и «Украинцы». Антирусское движение сепаратистов в Малороссии. 1847 - 2009». Новая книга под названием «Поводыри украинского сепаратизма. Конспирология самостийничества» обличает закулисную подоплёку «незалэжности» и русофобскую, антиправославную политику временщиков в Киеве. Родин в максимально сжатом виде подает малоизвестную информацию об инспираторах и деятелях антирусского сепаратизма в Малороссии, основанную на объективных исторических фактах.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
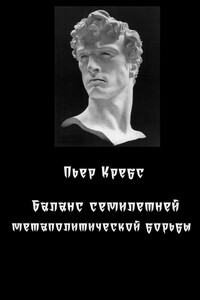
Мы переживаем политический перелом: старый спор между «правыми» и «левыми» в сфере социальных вопросов утрачивает свою силу. Официальные правые и левые все больше начинают заключать друг друга в идеологические объятия, за которыми тут же следуют политические: они обнаружили общность в том, что касается дальнейшего существования так называемой западной цивилизации, а именно, прежде всего, в тех областях этой цивилизации, которые можно оценить лишь негативно: в областях ее властно-структурных, эгалитаристских, экономических и универсалистских «ценностей».Эта книга хочет сделать что-то против этого.

«Гефсиманское время» – время выбора и страданий. Но это время, соединяя всех, кто пережил личное горе или разделил общее, как никакое другое выражает то, что можно назвать «личностью народа». Русский писатель обращается к этому времени в поисках правды, потребность в которой становится неизбежной для каждого, когда душа требует предельной, исповедальной честности во взгляде на себя и свою жизнь. Книга Олега Павлова проникнута этой правдой. После Солженицына, опубликовавшего «Россию в обвале», он не побоялся поставить перед собой ту же задачу: «запечатлеть, что мы видели, видим и переживаем».