Видоискательница - [40]
И я снова бежала по снегу, набирая в короткие сапоги горы сырой сковывающей стали, и ноги мои ныли; я бежала в бессмысленной тяге бежать, как бежим все мы — для жизни, до того дерева, чтобы обнаружить перед ним — в нем — свое краткое пристанище и далее искать деревья в платиновой пелене всю жизнь — и летом, сходя с ума от зелени и запаха травы, от ужаса горячего деревянного солнца.
На другой день бывает либо плохо, либо то, чего ты не ждешь. Вот тот самый икс, для которого и бывает плохо; переменный свет, зеркальная плоскость попадания.
Мои люди
…образ и голос встретились, идя с противоположных сторон,
чтобы пересечься в его внезапно пробужденном сознании.
X. Кортасар, «62. Модель для сборки»
Это был не ресторан «Полидор», а простая таллинская кофейня с высокими круглыми стульями, сомнительными сигаретами «американского типа» и мармеладом. Было снежное море, песок, и выдавались по просьбе свечи. Это было место, время и состояние переходности. Не тьма и не свет, зеленый гул — работа воздуха перед тем, как упасть ночи, тот час, когда удлиняются взгляды; внезапная контурность шпиля и коричневый пушистый свет стилизованного нутра кофейни. Тугая дверь, яркие мхи интерьера, гора блестящих чашечек, мой акцент: «Юкси кофэ», ее — понятливое: «Все?» (расколола). «Фсо», — я держу роль, но зачем этот бессмысленный риск — из любви к риску как таковому? Пристальность воспринимается как профессионализм, но другой профессии. Бог с вами, гражданин, уберите ваши тугрики и руки, дайте сосредоточиться.
Жидкие снутри, тепловатые озерца помятого синего воску видятся мне на керамическом блюде; они выглядят питательными, как шоколад (но синий цвет несъедобен!) — та же пленочка — тепло-жирная, дающая бесподобные отпечатки пальцев — до того вкусна и осязательно приятна. Ну вот, догорает бутыль синего стекла — вечернее вино Таллина, догорает и этикетка, особенно сладко дымясь и напоследок уточняя литеры; вот ее не видно уж — пепельный пласт — невесомая кора — топнет и тонет, тяготея к воску. Фитиль возвышается в лужице, раскачиваясь, как приморская сосна. Вот уж и догорел. На нёбе — прозрачная пластинка «Балтики», да часовой стук «Under tha-a-at!»
Сморщенные пятнисто-сиреневые кулачки робко выглядывали из широких и рваных рукавов ее свитера; рукава эти побывали во всех блюдах, а грязненькие пальчики, дрожа, отламывали кусочки запеканки, облитой чем-то спермообразным. Двое Здоровенных наблюдали ее нерешительные пассы в сторону колбасы…
Утром он дал ей рубль. О, рубль. На него можно купить целый вкусный кусок запеканки и двойной кофе и сигарет(т)… Она не смела просить больше рубля — маленькая, исчерченная любовью робкая девочка, и она понимала кое-что в лесбосе.
Сколько раз я видела эти картинки! И каждый раз впивалась, как впервые. Мне показалось, что этих людей что-то притягивало ко мне — или притягивала их я… Я чувствовала как-то странно, не по-дарвински, что происхожу от них; их странности были мне понятны; более того: приятны; смущенная раскованность, безденежье, бездомность, безвременье, вечное выживание, и риск, и аферы разного разбора, и кутежи; преодоление — в концентрированном виде; ежеминутная готовность к концу и началу — Света и собственному — античная философия максимальной завершенности (совершенности) дня.
Пестрая стая полулюдей окружила меня как свою, хотя я ни для кого не была своей; они были русские. Старик в рассыпающейся шапке с висящими клочками меха над цветным платком читал мне громко и удивленно: «Россия! Зачем я пришел к тебе?..», молодой — с полуседым хвостиком вьющихся волос — явно на игле — грустный и милый — предлагал бутерброд с колбасой; все откусывали его по кругу, начиная с меня; третий — дяденька Полтинник — очень с подбородком, который я люблю кусать и слушать хруст щетины, — протягивал мне пиво в бутылке с отбитым горлышком — его дозу. «Хотите?» — Движение маятника. Он протягивал мне острогранный сосуд со слюдой микроосколков открыто, хорошо, как ребенок — носочек, как собака — косточку, — бесполезное другим обоюдоострое счастье.
И надо было отглотнуть — я была в кольце моих родственников — и первый раз меня не предавали, не просили, не искали выгоды, а — любовались своим подобием; и я раскрылась, я засверкала, и мы всплакнули в обнимку с той девулей с вывернутыми и искусанными губами; потом принесли еще что-то, напевая и декламируя, и когда я начала целовать всех без разбора, я еще не понимала, что целую бумагу.
Смотрины
Медея Гурамовна Материдзе, местная блядь и пьяница, осенью решила устроить смотрины своим дочерям. Дочери ее, Наталка и Патлатка, тоже были бляди и каждый вечер принимали кого-то, разного цвета, которые выходили оттуда, покачиваясь от счастья, с долго непадающими хуями. Она строго наказала дочерям никого не принимать в ее отсутствие и хорошо себя вести, на что Патлатка, стряхнув с себя собачку Блядку, ебущую ее правую ногу, скромно кивнула, и Наталка тоже кивнула, соединив наконец ноги, опустив юбку и вынув руку из трусов. И Медея Гурамовна поскакала за провизией и выпивоном. Она оседлала было коня Блядину, но конь прогнулся под ее тяжестью, провис до земли, как старый гамак, стал выламываться, ноги у него подломились, и рухнул он прямо на голую землю. Ничего не сказала Медея, только подняла юбку, поправила чулок, помочилась на лошажью морду, взяла велосипед и поехала с рюкзаком в гастроном. Колеса велосипеда под ее тяжестью превратились в эллипсы, отчего он мерзко подскакивал, а узкая часть седла не терлась о клитор, как обычно, а больно в него ударялась. Но Медея не заметила дискомфорта, потому что у нее была цель, а она всегда добивалась поставленных задач. Приехала она с рюкзаком, полным копченых нарезов, ветчины, зелени, фруктов, мяса на шашлык, с одиннадцатью бутылками «Русского сувенира» и одной — чачи, заткнутой бумагой, на случай если грузин придет. Грузин не пришел, зато пришел дядя Толя — хищный, злой, высокий, смуглый, длиннопалый и длинноногий, немного сутулый, с большим фиолетовым ртом и блядскими зелеными глазами. Был он сед и уже немолод, но достаточно ебок и нравился обеим девкам страшно. Наталка и Патлатка его обступили и стали облизываться.

В свои 33 года Соня написала много рассказов, которые тянут на книгу, наконец собранную и изданную. Соня пишет о «дне», что для русской литературы, не ново. Новое, скорее, в том, что «дно» для Купряшиной в нас самих, и оно-то бездонно. Соня выворачивает наизнанку интеллигентные представления о моральных ценностях не ради эпатажного наезда на читателя, а потому, что сложившиеся стереотипы ей кажутся мерзкой фальшью.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.
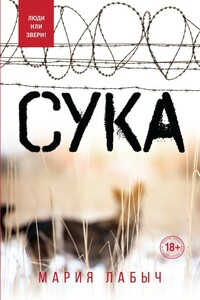
«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».

Пространство и время, иллюзорность мира и сновидения, мировая история и смерть — вот основные темы книги «Персона вне достоверности». Читателю предстоит стать свидетелем феерических событий, в которых переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. И хотя художественный мир писателя вовлекает в свою орбиту реалии необычные, а порой и экзотические, дух этого мира обладает общечеловеческими свойствами.

Повесть — зыбкий жанр, балансирующий между большим рассказом и небольшим романом, мастерами которого были Гоголь и Чехов, Толстой и Бунин. Но фундамент неповторимого и непереводимого жанра русской повести заложили пять пушкинских «Повестей Ивана Петровича Белкина». Пять современных русских писательниц, объединенных в этой книге, продолжают и развивают традиции, заложенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Каждая — по-своему, но вместе — показывая ее прочность и цельность.
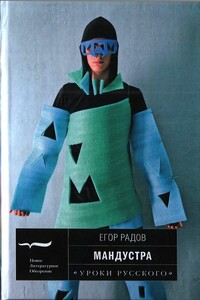
Собрание всех рассказов культового московского писателя Егора Радова (1962–2009), в том числе не публиковавшихся прежде. В книгу включены тексты, обнаруженные в бумажном архиве писателя, на электронных носителях, в отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея, а также напечатанные в журналах «Птюч», «WAM» и газете «Еще». Отдельные рассказы переводились на французский, немецкий, словацкий, болгарский и финский языки. Именно короткие тексты принесли автору известность.

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.