Ветры Босфора - [15]
Страшен плен турецкий.
Любой русский моряк предпочтет плену смерть. Скованных по рукам и ногам цепями людей, раздетых догола, ведут по стамбульским улицам. Блажат дервиши, у ртов бешеная пена. Кричат о врагах аллаха, врагах пророка Магомета! В пленных летят из толпы камни, железные крючья, а то и меткие, посланные умелой рукой, ятаганы. Но стократ страшнее попасть в плен к туркам татарину. Единоверцу толпа ста шагов пройти не даст. Разорвет на части, растопчет, размажет плоть по земле. В крови несчастного стамбульцы вымочат босые ноги. Как в крови барана,
зарезанного на рамадан
Перед каждым походом Зябирев, уединившись в каком-нибудь темном уголке - в глубинных недрах трюма мало ли таких! - отрешенно и сосредоточенно творит намаз. Больше боя, больше жесточайшего шторма боится плена. Казарский настрого наказал, не трогать татарина во время молитвы. Чего бы ни было в прошлом - всем жить на одной земле. Жить на одной земле можно только в уважении друг к другу.
- Ой, Файзуилка, - строго осудил и татарина Конивченко, еще больше суровя серо-седые, полынные брови, - у тя чи очи косые? Люди дырки в борту «султана» щитают. А твои глаза на коняку косят! Вот хропнет тебя турка, такого разяву, на ятахан, выпустит требуху, шо из пса!
- Моя мал-мала шибко коней любит. Моя коней любит, как корабли любит, - с лаской в голосе возразил татарин.
Что- то и Казарскому -так же, как и боцману - не нравилось в призовом судне Кутакова. Да судна и не было. Была громадная, черная после пожара посудина с одной-единственной уцелевшей бизань-мачтой. Посудина оседала в воду, притягиваемая донными духами. Помоги Бог Кутакову дотянуть ее до Анапы! Кутаков, самоуверенно храбрый, в бою «слеп». Если уж ему завязалась пальба - то крой и круши. В бою глаза заливает кровью. Казарский подумал, что встреться с турецким отрядом в море не Кутаков, а капитан-лейтенант Стройников, командир «Меркурия», плененный «султан» выглядел бы, пожалуй, не так жалко.
- Семенов, - проговорил Казарский, - вот перед тобой «султан». Положим, он целый. Положим даже, что это не транспорт, набитый войском, а боевой бриг, маневренный, готовый к сражению, - что, конечно, пострашнее. Куда, Семенов, ты стреляешь? И чем стреляешь?
Бомбардир прищурился раздумчиво, метясь в «бриз».
- Потопить, вашскородь, добрый бриг скоро не потопишь… Я б, вашскородь, в грот-мачту метил. Чтоб повалило ее. И еще б хорошо пожар учинить!
- Ай, да Семенов! Ай, да умная голова! - засмеялся одобрительно лейтенант.
В самом деле, ветхому «Сопернику» надеяться на то, что, продырявив корпус добротному кораблю, он одолеет его, не приходится. Тут игра должна быть, - как в жмурки. И учинить такую можно! Попади в мачту, повали ее. Паруса упадут на палубу, всех накроют. Вот корабль и потерял управление. Противник барахтается под тяжелыми полотнищами. Когда-то он еще из-под них повыползает! А случается, попадет бомбардир в какой-нибудь тоненький фал (трос), - и вот она победа! Перебит фал - ослабело натяжение в других снастях. В фалах потолще, в шкотах, в толстенных брасах. Паруса провисли, ветер не надувает их. И корабль уже не корабль, а корыто, которым играют волны. Только ведь в этот фал надо еще суметь попасть!
Еще адмирал Ушаков учил: стреляя, думай. Не хитро попасть в корпус. А ты меться в наиболее уязвимые места. Конечно, нет места на корабле более опасного, чем крюйт-камера (пороховой погреб). Попади туда искра - от корабля только взбрызг на воде, - и всему конец. Да ведь крюйт-камера глубоко, в чреве корабля, продуманно, изощренно защищенном. А мачты, снасти, натягивающие паруса, на виду. Вот ими и умей довольствоваться! Ушаков первым начал метить в них, осознав, какую они несут в себе уязвимость!
- Я б, вашскородь, - горячо заговорил молодой канонир Иван Лисенко, - брандскугелями [17] «султана» так забросал бы, так забросал, шоб у пожари уси три мачты сгорели. Хвилинка, - был «султан», стали дрова для тетки Христинки.
Матросы засмеялись.
- То-то ты палишь - море шипит. То не долетел твой шар, то перелетел. Лисенко палит, море горит, за бортом уха варится! - зубоскалил Трофим Корнеев. Лучший бомбардир «Соперника», он был неправ. Ревновал молодого Лисенко, набиравшегося все большей и большей меткости. - Я б, вашскородь, в грот-руслень [18] целил! И не брандскугелем, а книпелем, книпелем [19] . Чирк по фалу! Паруса и накрыли турка.
Лисенко зарозовел с досады.
- А попал бы в руслень, Корнеев?
- Да уж не оконфузил бы «Соперник», - улыбнулся Корнеев.
- Хиба «султан» в бою вот так ровненько ползет, как этот за «Ганнимедом»? - съехидничал Лисенко. В его мягком голосе тоже прозвучала притаенная ревность, - Вертится ж, як чертяка на сковородке!
«Султан» уползал все дальше. Вот уже сомкнулись вдалеке два судна в одно, длинное. Вот паруса «Ганнимеда» опять стали похожими на накрененную пирамидку. Впереди «Соперника» до самого горизонта пустынная синь. Солнце подымается к зениту. Тишина вокруг, обман-ная, невидимо напитанная тревогой. Сменялись вахтенные. Казарский почти не уходил со шканцев, - у командира на корабле во время похода вахта длится столько, сколько длится поход. Разговоры о «Ганнимеде» не утихали. Вспыхивали то там, то там. Кутакова хвалили: больше трехсот человек в плен взял. А на бриге всего - сто два человека.

«Севастопольская девчонка» — это повесть о вчерашних школьниках. Героиня повести Женя Серова провалилась на экзаменах в институт. Она идет на стройку, где прорабом ее отец. На эту же стройку приходит бывший десятиклассник Костя, влюбленный в Женю. Женя сталкивается на стройке и с людьми настоящими, и со шкурниками. Нелегко дается ей опыт жизни…Художник Т. Кузнецова.
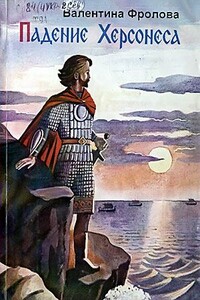
В своем новом произведении автор обращается к древнейшим временам нашей истории. Х век нашей эры стал поворотным для славян. Князь Владимир — главный герой повести — историческая личность, которая оказала, пожалуй, самое большое влияние на историю нашей страны, создав христианское государство.

О дружбе Диньки, десятилетнего мальчика с биологической станции на Черном море, и Фина, большого океанического дельфина из дикой стаи.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.