Ветры Босфора - [11]
- Кавказ, ваше величество, кишит вражеской… - Под взглядом Николая даже бывалый Грейг сбился… - Кишит дружеской агентурой. Нет никакой возможности ни в Батуме, ни в Поти уберечься от шпионажа и тех критических моментов, которыми умеют так искусно пользоваться англичане.
- Дела-то, батушка, значит хуже, чем я думал! - в горестном прозрении воскликнул в своем углу Канкрин.
Испугался: вон к чему Грейг клонит! Сейчас будет требовать ассиг-нований на новые ружья. (А то без них не воевали!) Сейчас будет доказывать, что железная дорога нужна. С этой железной дорогой Сева-стополь подступал к царю, как с ножом к горлу. (А то без нее не жили!). Оставаясь с царем наедине, Канкрин негодовал: «И к чему, батушка, эти рельсы, когда их все равно на полгода занесет снегом? Напрасная трата денег, батушка мой!…»
Николай еще раз прислушался к себе.
Грейг, конечно, молодец!
За Анапу Грейга - в адмиралы.
Но Грейг не Лазарев… Нет, не Лазарев… Лазарев при Наварине не считал, на сколько у него кораблей меньше, чем у противника. Жег, крушил, уничтожал, - потом уже сосчитал, сколько.
Николай перешел ко второму столу. Взглянул в наградной рапорт.
- Этот кто? - спросил, хмурый. Ткнул пальцем в незнакомую фамилию.
Грейг подошел. И опять колкая улыбка сдвинула уголки губ.
- Еще один холостяк тридцати одного года. Лейтенант Казарский, командир брига «Соперник». Очень искусно стрелял по крепостным стенам, ваше величество. Палил в одну точку, пока брешь не пробил в рост солдата.
- «Соперник»?!. Так «Соперник» же - ветошь? Помню, подписывал списание. Сами твердили: «Отходил. На дрова одни годен».
- На дрова и годен, - подтвердил Грейг. - Но Казарский пока держит его на плаву. И вот даже воюет.
Канкрин заволновался, заерзал:
- А я что говорю? Я всегда говорю: «Одна глюпая фарса - все эти списания!». Бриг ходит, бриг стреляет, бриг на дрова! Что будет, батушка, когда я умру? Россией печки топить будете! Вся Россия дымом уйдет!
Черт дери, а ведь и Канкрин прав! Не считать деньги никак нельзя!
Лицо крохотного генерал-адъютанта пошло пятнами. Он покрутил шеей. Ворот мундира под теплым шарфом жал глотку. Николай и Грейг расхохотались.
- Алексей Самуилович! - горячая страсть желания расплавила свинец в глазах Николая. - Баталия нужна громкая. Подвиг такого грому нужен, чтоб Европа охнула и оглохла. Они с нами - как с дурачками.
Уже за Анапу курур подсовывают. Ты помни, Алексей Самуилович, из Анапы не уйду. Ни за какие куруры не уйду. Видал, какие умники?
- Уж так! - мрачно подтвердил и Канкрин. - Кровь льет Россия, бифштексы ест Европа.
- Ваше величество, мы делаем все, чтобы выманить турецкий флот из проливов и сойтись с ним в море.
- Я в свой флот верю, - сказал Николай, - и надеюсь, Алексей Самуилович, что сойдешься ты борт к борту с капудан-пашой. Будут ли рядом союзники, не будут ли, а чтоб поступлено с неприятелем было по-русски!
Грейг стоял, выпрямившись.
- Не закрепимся здесь мы, - Николай ткнул пальцем в Анапу, - закрепятся англичане, спрятавшись за рыхлые спины турок.
И вдруг, опять без старания быть последовательным, наклонился над наградным листом:
- Так как, говоришь, фамилия лейтенанта? Казарский?
- Казарский, ваше величество.
- Сколько, говоришь, лет холостяку?
- Тридцать один год, ваше величество.
- Стоп!… Казарский… Казарский?…
Грейг знал, невероятная память - предмет гордости Николая. Верно, эта память уравнивала его с величайшими полководцами былых времен. Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех своих солдат, - до 30 тысяч человек. Никто из историков не дал себе труда подсчитать, сколько тысяч подданных помнил Петр I. Но помнил, верно, и поболее 30 тысяч. Помнил военных, помнил подрядчиков, работавших на военных. Хотя бы памятью Николай уж точно был в пращура.
- Казарский… Казарский…
Николай вернулся к первому столу.
- Как же ты говоришь, Алексей Самуилович, что «Соперник» стрелял по крепостным стенам, когда «Соперник» - судно транспортное? - поднял недоуменно бровь.
- Один единорог, ваше величество, поставлен на борт с началом военных действий. А вообще с начала века на борту «Соперника»…
- С начала века? - повысил голос царь.
- С начала века, - упрямо, с внутренним едким сарказмом
повторил Грейг, - на борту были только карронады [13] . Казарский их число увеличил.
- И что? Научил этот Казарский своих «амбалов», своих «бурла-ков» стрелять?
- С отменной меткостью стреляют транспортники.
Николай открыл папку с докладами Моллера.
Вот оно, письмо главного шкипера Севастополя капитана II ранга Артамонова о необходимости незамедлительности в решении судьбы ветхого брига «Соперник». Если нельзя выполнить высочайшее повеление о немедленном списании брига, то надобно приписать транспорт со всей командой к Дунайской флотилии. Плавание по реке не грозит такими трудностями и непредсказуемостями, как плавание по морю.
Вспомнил!
Купец Камелев под видом корабельного леса доставил тонкомер-ный лиственный лес. А шкипер Артамонов вопреки всем правилам готов был тот лес принять. Командование тогда докладывало, что злого умысла у Артамонова не было. Все шкиперу сошло с рук. Николай перечитал резолюцию: «Шкиперу Артамонову сделать строгий выговор за неисправное исполнение возложенного на него поручения. Велеть ему немедленно самому выехать на место заготовки лесов, и если в будущую операцию не доставит лесов тех размеров, которые надобны, то объявить вперед, что отдан будет под суд».

«Севастопольская девчонка» — это повесть о вчерашних школьниках. Героиня повести Женя Серова провалилась на экзаменах в институт. Она идет на стройку, где прорабом ее отец. На эту же стройку приходит бывший десятиклассник Костя, влюбленный в Женю. Женя сталкивается на стройке и с людьми настоящими, и со шкурниками. Нелегко дается ей опыт жизни…Художник Т. Кузнецова.
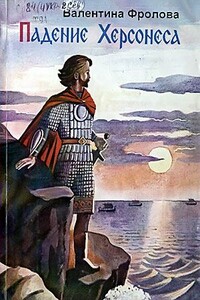
В своем новом произведении автор обращается к древнейшим временам нашей истории. Х век нашей эры стал поворотным для славян. Князь Владимир — главный герой повести — историческая личность, которая оказала, пожалуй, самое большое влияние на историю нашей страны, создав христианское государство.

О дружбе Диньки, десятилетнего мальчика с биологической станции на Черном море, и Фина, большого океанического дельфина из дикой стаи.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.