Ветер западный - [98]
Картер, сутулясь, покорно осушил кружку, запачкав молоком верхнюю губу, жена молча стерла молочные следы манжетой своего рукава.
— Никто нам не поверит, — вяло произнес Картер. — Только возбудим подозрения — рубаха, тело вдруг раз и всплыли аж через три дня после исчезновения, да за это время его бы унесло куда дальше, чем к Западным полям. Кто нам поверит?
Последнее прозвучало не как вопрос, но как отказ, которого я не принял:
— Течением тело прибьет сперва к Лишней мельнице, затем к излучине у Погорелого леса, что замедлит его продвижение, не говоря уж о новой преграде — упавшем дереве.
У дерева тело наверняка застрянет, и надолго, нам ли не знать, наученным горьким опытом. Я строго попросил Картера уверовать в наш замысел, пусть это и театр, но зрелище правдиво, даже если оно не сама правда, — правда же в том, что тело Ньюмана где-то болтается, искореженное, а душа его на пути к небесам. Что было написано на лице Картера? Отчаяние, в котором таилась надежда на искупление, а в надежде таился страх: а вдруг наше притворство никого не убедит?
— Итак, ты придешь ко мне, Хэрри Картер, — продолжил я, — в понедельник или во вторник, явишься рано, до рассвета, и скажешь, что на реке человек зацепился за упавшее дерево. — Большим пальцем я приподнял его подбородок, уткнувшийся в грудь. — Придешь ко мне, Хэрри, и скажешь — что?
Тускло, осоловело, будто рыба, выброшенная на берег, он прошелестел:
— Там человек у дерева, утопленник.
— Чем лучше ты притворяешься, тем меньшим притворством это кажется, чем больше это походит на правду, тем убедительнее выйдет знамение. Чем правдивее знамение, тем легче поверить, что исходит оно от Бога. И, — присовокупил я, — тем полнее будет твое искупление.
— Утопленник в реке у Западных полей, отче.
— Зацепился за…
— Словно драные лохмотья.
Я положил ладонь на его плечо, по-прежнему холодное на ощупь, не согревшееся после утреннего купания в реке. Кэт Картер опустила ладонь на другое его плечо. На меня она не смотрела, только на мужа. И я увидел нас, себя и Картера, застигнутых спустя несколько дней в тот миг, что, может, и напоминал шараду, но игрой не был. В миг рукотворной надежды, когда Ньюман был с нами, не сгинувший, но спасаемый — ни живой ни мертвый, лоб подставлен для помазания елеем, рот открыт в ожидании облатки, — и время остановилось, если не потекло вспять. Мы запаслись святым елеем, облаткой, наши сердца трепещут в надежде, ноги не стоят на месте. И мы вдвоем бросаемся бежать что есть мочи.
Поздним вечером я сидел на ступеньке у алтаря; прозвонил колокол, и на последнем, девятом ударе деревня уснула. Я бы не удивился, войди в церковь Ньюман, живым или не-мертвым, но в любом случае не таким, как все. Мне чудилось, что он был мертв всегда, а не только один сегодняшний день, — будто до его смерти времени вовсе не существовало.
Поднявшись, я гасил один за другим настенные светильники, пока церковь не погрузилась во тьму, разгоняемую лишь моей свечой. Таким меня и застал Оливер Тауншенд — одиноко сидящим почти в кромешной тьме на алтарной ступени. Дождь рассыпался каплями по оконному стеклу, и сперва я подумал, что это мыши скребутся. Узнал я его по легкой поступи, а еще по приземистой, крепко сбитой тени, в Оукэме ни у кого больше такой не было. Все, кроме Танли, были сложены бережливо худощавыми и жилистыми, но не Тауншенды. Сесили стройная, но ширококостная, а муж ее налитой, тяжелый, словно филейная часть бычьей туши. При этом походка у него была кошачьей, пальцы на ногах смотрели вовне, когда он шагал. Легонько процокав, он уселся рядом со мной у алтаря. И потушил свой фонарь.
— Скамьи, — сказал он, потирая поясницу, — вот что нам надо. Даже Борн теперь обзавелся скамьями, слыхали?
— Окна, скамьи, мост, торговля. Есть что-нибудь, чего нам не надо?
— Вы намерены заночевать тут, Рив? — От него пахло по-домашнему клевером, дымком и запеченной свининой. — Только не говорите, что это вы пригласили сюда окружного благочинного, ту еще бестию. — Он вопросительно посмотрел на меня.
— Ладно, не скажу.
— Боже правый, зачем он вам понадобился?
— Он приличный человек.
— Такой же приличный, как вспышка чумы.
Еще днем я бы поспорил с Тауншендом, теперь промолчал. Я не понимал, приличный у нас благочинный или нет. Его отношение ко мне изменилось — поначалу он считал меня вправе рассчитывать на его защиту, затем усомнился во мне, но делает ли это его неприличным? Или меня, если уж на то пошло?
— Он наведался ко мне, — сказал Тауншенд, — спрашивал, какая земля принадлежит мне, а какая Ньюману, и когда Ньюман выкупал у меня землю, и что за сделку мы заключили, и почему. Выдул полбутыли моего вина. Поинтересовался даже, нельзя ли ему взглянуть на наши расчеты и записи.
— Нельзя?
Тауншенд, очевидно, счел мой вопрос наивным, ффф… выдохнул он и хлопнул себя по коленке.
— Он пытается найти ответы на свои вопросы, вот и все, — сказал я. — Когда вышестоящие примутся расспрашивать его, он должен будет как-то отвечать. Думаю, он заслуживает доверия.
— Не заслуживает. — Тауншенд повернулся ко мне. Тень его переместилась ему за спину, чудовищно увеличившись, голова стала размером с бычью. — Он рыщет повсюду в поисках улик. Прежде чем он отсюда уедет, один из нас заплатит за смерть Ньюмана. Один из нас вспыхнет, объятый пламенем, и, вероятно, это буду я.
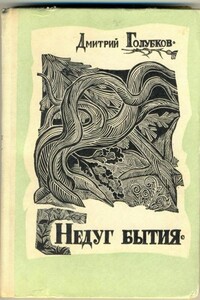
В книге "Недуг бытия" Дмитрия Голубкова читатель встретится с именами известных русских поэтов — Е.Баратынского, А.Полежаева, М.Лермонтова.

Все слабее власть на русском севере, все тревожнее вести из Киева. Не окончится война между родными братьями, пока не найдется тот, кто сможет удержать великий престол и возвратить веру в справедливость. Люди знают: это под силу князю-чародею Всеславу, пусть даже его давняя ссора с Ярославичами сделала северный удел изгоем земли русской. Вера в Бога укажет правильный путь, хорошие люди всегда помогут, а добро и честность станут единственной опорой и поддержкой, когда надежды больше не будет. Но что делать, если на пути к добру и свету жертвы неизбежны? И что такое власть: сила или мудрость?
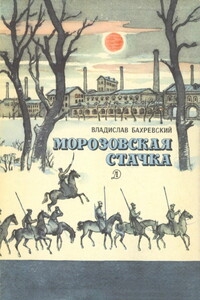
Повесть о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году в городе Орехове-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова.

Исторический роман о борьбе народов Средней Азии и Восточного Туркестана против китайских завоевателей, издавна пытавшихся захватить и поработить их земли. События развертываются в конце II в. до нашей эры, когда войска китайских правителей под флагом Желтого дракона вероломно напали на мирную древнеферганскую страну Давань. Даваньцы в союзе с родственными народами разгромили и изгнали захватчиков. Книга рассчитана на массового читателя.

В настоящий сборник включены романы и повесть Дмитрия Балашова, не вошедшие в цикл романов "Государи московские". "Господин Великий Новгород". Тринадцатый век. Русь упрямо подымается из пепла. Недавно умер Александр Невский, и Новгороду в тяжелейшей Раковорской битве 1268 года приходится отражать натиск немецкого ордена, задумавшего сквитаться за не столь давний разгром на Чудском озере. Повесть Дмитрия Балашова знакомит с бытом, жизнью, искусством, всем духовным и материальным укладом, языком новгородцев второй половины XIII столетия.

Лили – мать, дочь и жена. А еще немного писательница. Вернее, она хотела ею стать, пока у нее не появились дети. Лили переживает личностный кризис и пытается понять, кем ей хочется быть на самом деле. Вивиан – идеальная жена для мужа-политика, посвятившая себя его карьере. Но однажды он требует от нее услугу… слишком унизительную, чтобы согласиться. Вивиан готова бежать из родного дома. Это изменит ее жизнь. Ветхозаветная Есфирь – сильная женщина, что переломила ход библейской истории. Но что о ней могла бы рассказать царица Вашти, ее главная соперница, нареченная в истории «нечестивой царицей»? «Утерянная книга В.» – захватывающий роман Анны Соломон, в котором судьбы людей из разных исторических эпох пересекаются удивительным образом, показывая, как изменилась за тысячу лет жизнь женщины.«Увлекательная история о мечтах, дисбалансе сил и стремлении к самоопределению».