Ветер западный - [69]
Его выбрали под одобрительные возгласы, негромкие возгласы, ведь никто не забыл, что последние двенадцать лет эту роль исполнял человек, наиболее равный мне во всех отношениях, — Ньюман. Однако, дабы не портить праздник, люди старательно делали вид, будто Ньюман не умер, лишь уехал на денек по своим надобностям, и мы приступили к церемонии. Лодку развернули бортом к берегу, за нос ее крепко держал Танли, за корму — Хадлоу. Роберт Гай снял башмаки и ступил в лодку. Разувшись, я влез в лодку следом за ним, и мы оба стояли нетвердо на середине днища, еще немного — и мы бы обнялись, устойчивости ради.
— Займите свои места, — прорычал Танли, и мы оба с опаской разошлись по разным концам лодки. Роберта Гая шатнуло, он схватился за борт, и лодка едва не перевернулась.
— Голубчик сраный, ты что, ослеп или одурел? — поинтересовался Танли. — Ты на мельничной запруде, не в Атлантике же.
Гай сердито глянул на него и выпрямился. Я управился ловчее, наверное, потому, что делал это каждый год, у меня было достаточно времени, чтобы наловчиться держаться прямо и, позорно шаркая ногами, доковылять до кормы.
Толпа — добрых две трети деревни явилось — взволнованно зашумела. Обычно они насмешничали наперебой и обсуждали нелицеприятно наши стати, словно речь шла о бойцовских псах, и все же, пусть духовные достоинства священника и подвергались испытанию, сомнения в них на самом деле никогда не возникало. Но в этом году уверенность Оукэма была поколеблена. Что сейчас перед ними, балаган или правый суд? Хмуро, пристально наблюдали они, как Роберт Гай неуклюже вставал на ноги, стараясь не упасть. Если его конец лодки опустится глубже, чем мой, это значит, что я вешу меньше, а если я вешу меньше моего соперника — схожего со мной по телесным меркам, — это докажет истинность моего священничества, поскольку вес у меня больше, чем у ангела, но меньше, чем у человека. Больше плотского мужества, чем у ангела, но бремя моей плоти легче, чем у обычных людей. Таким образом я вновь обретаю право блюсти моих прихожан во время Великого поста. А если мой конец лодки осядет настолько же, насколько у соперника, либо, Господи помилуй, даже глубже, тогда я не знаю, что было бы, поскольку никогда такого не случалось. За двенадцать лет, с Ньюманом на другом конце лодки, такого не случалось никогда.
Роберт Гай вскарабкался на ноги; более непривычного к водоплаванию человека, чем этот неподатливый счетовод, мы бы днем с огнем не нашли. Он стоял, разведя руки в стороны, напоминая пугало. Мне показалось, что разница в весе у нас весьма незначительна; я радовался тому, что не пообедал, и жалел о том, что позавтракал. Лодка качнулась, выровнялась, и Танли снова зычно скомандовал: “Убрать руки! Отпускаем!” — и они с Джоном Хадлоу разом отняли руки от носа и кормы, отпустив нас на волю судьбы. Глаза оукэмцев были прикованы к корме. Всплывет ли она? А нос с Робертом Гаем уйдет ли поглубже в воду? Я перевел взгляд на шеренгу мощных дубов, каждый из них — вселенная, полная жизни; галки шныряли по ветвям, дятлы то долбили ствол, то взлетали высоко, зяблики потрошили кору. И гнезда. Множество гнезд.
Я не заметил, как лодка приподнялась подо мной, упустил это кратчайшее мгновение невесомости. Мне хотелось почувствовать небесную легкость в членах, вытеснившую тяжесть костей и плоти, и опять у меня возникло ощущение, что за кряжем простирается море в своей бесстрашной огромности, и встань я на цыпочки, то, возможно, увидел бы верхушки мачт на кораблях, что прокладывают себе путь по волнам. На Роберта Гая я не смотрел, а на толпу — из боязни потерять равновесие — посмотреть не мог. Колени мои слегка подрагивали, и стоял я не очень уверенно, и лодка покачивалась подо мной без какого-либо перевеса на корме или на носу, либо мне так казалось. Я втянул в себя воздух. Это поможет? Или нужно выдохнуть? От воздуха внутри мы становимся легче или тяжелее? В толпе раздались редкие хлопки, а потом нестройные и не слишком громкие одобрительные возгласы, и Танли выкрикнул:
— Нос внизу! Корма наверху! Аминь!
Лодку выволокли на берег; Роберт Гай торопливо вылез, я же ступил на землю, не испытывая ни гордости, ни радости победителя, ведь если нос и зарылся в воду, я этого не почувствовал. И, кроме Танли, никто торжествующе не восклицал. На берегу с облегчением переговаривались, но поздравить меня никто не подошел, и вскоре толпа рассеялась — если ваш священник доказал, что он, по крайней мере, капельку святее вашего счетовода, это еще не повод для торжества, не более чем проснуться поутру с двумя целехонькими ногами. Жизнь идет по заведенному порядку, и ладно. А вот если бы вы проснулись без одной ступни, тогда было бы что отметить.
В церковь я возвращался один, сердце мое тоненько шуршало, словно колода карт, когда ее тасуют. Прежде, с Ньюманом на противоположном конце весельной лодки, мы смотрели друг другу в глаза, а после взвешивания он улыбался и хлопал меня по плечу, и мы вместе шли обратно в церковь. Тогда-то он и признался — не помню, на третий или четвертый год, — признался в том, что каждый раз перед взвешиванием кладет в подкладку верхнего платья камни размером в кулак. “Без какой-либо надобности, — пояснил он, — просто чтобы добавить зрелищу яркости”. Я знал, что надобности и не было. И простил ему этот театральный прием, позволив и впредь набивать подкладку камнями.
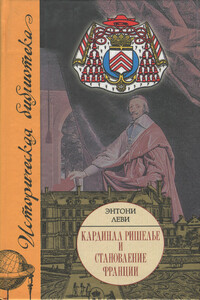
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта история произошла в реальности. Её персонажи: пират-гуманист, фашист-пацифист, пылесосный император, консультант по чёрной магии, социологи-террористы, прокуроры-революционеры, нью-йоркские гангстеры, советские партизаны, сицилийские мафиози, американские шпионы, швейцарские банкиры, ватиканские кардиналы, тысяча живых масонов, два мёртвых комиссара Каттани, один настоящий дон Корлеоне и все-все-все остальные — не являются плодом авторского вымысла. Это — история Италии.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.