Венеция в русской литературе - [14]
Итак, Венеция, как она представлена в венецианском тексте, являет собой не только естественную для такого рода образований центровую точку отсчета, но некий универсальный топос, изначально ориентированный на широкое пространственное окружение. Универсальность внутреннего венецианского мира, эксплицирована она в тексте или нет, определяет в русской литературной венециане взаимопроницаемость Венеции и внешнего по отношению к ней мира, создавая разноуровневую систему перекличек и зеркальных отражений, благодаря которым Венеция оказывается соприсутствующей в самых разных точках внешних пространств, а сами эти пространства соприсутствуют в ней. Именно в этом качестве Венеция может быть особенно дорога русскому сознанию, стремящемуся вопреки историческим коллизиям обрести то пространство единения, где бесконфликтно могут встретиться Восток и Запад, наследники Рима и Византии. Само существование Венеции внушает мысль о возможности подобного единения, чем в определенной степени и объясняется ее притягательность для русских всех поколений.
Соотношение дискретного и континуального во внутреннем пространстве Венеции
Организация внутреннего пространства Венеции завершилась сравнительно рано — в XVI веке. Последующие столетия мало, что изменили в ее городской структуре и внешнем облике. Из замечательных построек XVII века можно назвать только церковь Санта Мария делла Салуте, здание таможни и два дворца работы Лонгены. Природная специфика места, принявшего город, изначально обусловливала относительную определенность и устойчивость его границ, расположение и соотношение центров, особенности периферийной застройки. В течение нескольких веков город почти не расширялся и мало менялся внешне. Эту особенность Венеции, как бы остановившей время, отметил в 1902 году В. Брюсов: «Венеция не растет более, хотя места еще много. Еще много отмелей, которые можно бы тоже обратить в улицы…»[41].
За десятилетия ХХ века положение несколько изменилось, но незначительно. Почти через 70 лет после Брюсова С. Н. Всеволожская в единственной изданной за сравнительно недавние годы российской книге, специально посвященной Венеции, пишет: «Сама Венеция, расположенная на 108 островах и прорезанная 160 каналами, была застроена в прошлые века, и современных зданий в городе почти нет. Отсутствие промышленных предприятий, современного строительства и автотранспорта способствует тому, что Венеция сохраняет облик старого города, превратившегося как бы в музей, привлекающий массы туристов»[42]. Таким образом, Венеция являет собой абсолютно уникальный город, где время обрело пространственные формы и одно вне другого не существует. Следовательно, любой разговор — о времени ли, о пространстве ли — оборачивается применительно к ней разговором о венецианском хронотопе с возможностью лишь доминантных уклонений. Художники, тесно связанные с Венецией и много писавшие о ней, остро чувствовали здесь проницаемость границ хроноса и топоса. Последовательнее и ярче других это выражено у И. Бродского, который и в стихотворениях, не связанных прямо с венецианским текстом, но имплицитно с ним соотносимых, фиксировал внимание на временных трансформациях пространства и пространственных трансформациях времени. Те же тенденции в восприятии и изображении Венеции отчетливо видны в романе Ю. Буйды «Ермо», где пространство наделено ключевыми признаками времени, а время выражает себя через пространство. Подобное почти уникальное единство проявлений времени и пространства синтезирует весь венецианский мир, который на уровне общего ощущения города предстает как цельный внутри себя.
Органическое соединение природного и рукотворного обусловило выраженность в пластическом облике Венеции сразу двух временных проявлений — линейного (исторического) и циклического (замкнутого мифологического). Взаимодействуя, они не только не противоречат друг другу, но создают совершенно неповторимый мир с трансхронной функцией пространства.
Теснейшая связь с временем обусловила изображение внутреннего пространства Венеции в русской литературной венециане как дискретного и континуального одновременно. Изображение пространства как дискретного во многом определяется законами восприятия городского топоса, которые, в свою очередь, тесно связаны с законами роста и развития города, о чем писали многие урбанологи. А. Э. Гутнов, в частност, по этому поводу замечает: «Город начинался с перекрестка дорог, водных или сухопутных. Такое положение обеспечивало ему главенство над целым районом, размеры которого, в свою очередь, определяли значение и перспективы дальнейшего роста самого города. Точно так же и внутри городов есть свои точки роста, функциональные доминанты, своего рода „города в городе“, активно воздействующие на всю остальную территорию»
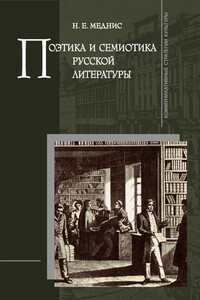
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.