Венеция в русской литературе - [16]
Связанные с Венецией признаки живописности, отражаясь в литературе, становятся элементами художественного языка венецианского текста. В художественной речи они предстают вариативно, сопрягаясь с разными сегментами топоса, отмечая пространство и горизонтали и вертикали. Так, в «Венеции» (1912) А. Ахматовой признаком живописности явно наделяется точка абсолютного верха:
Однако и стихотворение в целом обнаруживает ту же интенцию, о чем уже писала Й. Спендель де Варда: «Восприятие Венеции Анной Ахматовой, ее чувства и настроения странно перекликиваются с впечатлениями А. Блока, который тремя годами ранее совершил это путешествие… Стихи Ахматовой стремятся уловить это неуловимое, казалось бы, впечатление, когда стих начинает рождаться из бесформенного клубка линий и цветов… И дальше общий фон становится более и более замкнутым, зрение начинает сосредоточиваться уже на определенных деталях и образах, приближаться как бы к центру картины, а центром картины оказывается лев, образ которого повторяется в разных аспектах»[51].
Порой стихотворный текст как бы соединяет, если не синтезирует, стилистику и предметный мир разных венецианских художников, переводя все это в плоскость словесной живописи, как, к примеру, в «Венеции» (1919) М. Кузмина, где с названным Тьеполо знаково соседствует неназванный Пьетро Лонги:
Тот же принцип видения и изображения Венеции, но уже как сквозной, структурообразующий, лежит в основе одноименного стихотворения М. Волошина:
(«Венеция», 1903)
Для живописно-словесного представления Венеции, которое реализует закон трехмерности изображения, существует в русской литературной венециане проблема своего рода четвертого измерения, связанная с «человеком в пейзаже». Данная точка внутри пространства исключительно значима уже потому, что в большинстве случаев она активна по отношению к окружению, ибо именно человек выстраивает это окружение в своем сознании, перебирая и сополагая отдельные его элементы с опорой на вообразимость. Но категория вообразимости может «работать» и от обратного, когда художник слова в своем представлении о топосе вообще и венецианском топосе в частности в предположении исключает фигуру наблюдателя как неотъемлемый элемент целого, утверждая автономность внеположенного по отношению к нему пейзажа. Такова философская и, насколько это возможно для лирического текста, эстетическая позиция И. Бродского, нашедшая выражение в стихотворении «Посвящается Пиранези» (1993–1995). Стихотворение это, уже самим названием своим связанное с Венецией через имя легендарного архитектора, представляет в искусственном пиранезиевском пейзаже двух собеседников, рассуждающих о фигурах в пейзаже и таким образом выводимых в позицию над относительно самих себя:
Правда, следует признать, что И. Бродский не доводит данный принцип до абсолюта, ибо деталь в пейзаже может у него взорвать чистую пейзажность, перенося изображение в план «живой жизни», то есть как бы вынимая его из рамы. То же стихотворение «Посвящается Пиранези» заканчивается строкой —
И тут пейзаж оглашается заливистым сучьим лаем.
Однако в целом для венецианских произведений И. Бродского все-таки более характерна позиция, когда человек, находясь в пейзаже, отделяет себя от него, оставаясь художником, изображающим пейзаж. Это видно во многих стихотворениях поэта: «В лагуне» (1973), «Лидо. Венеция» (1992), «С натуры» (1995), а «Венецианские строфы (2)» (1986) в данном отношении открыто перекликаются со стихотворением «Посвящается Пиранези»:
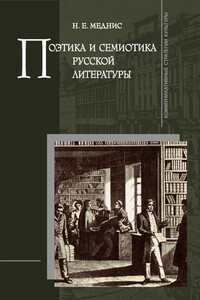
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.