Венеция в русской литературе - [104]
Именно этот образ как ближайшая позиция бесконечной временной вертикали не случаен для Венеции вообще и Венеции И. Бродского, в частности. Вездесущие представители рода кошачьих, которые в системе исторических аналогий так раздражали Б. Пастернака, для И. Бродского — естественные и полноправные обитатели водного города. Лев для него становится знаком всего, что связано с Венецией, в том числе и в его собственном творчестве. «В этом городе львы на каждом шагу, — пишет И. Бродский, — и с годами я невольно включился в почитание этого тотема, даже поместив одного из них на обложку моей книги: то есть на то, что в моей специальности точнее всего соответствует фасаду» (236; 88).
Однако венецианские львы в видении И. Бродского меньше всего отвечают признакам своего биологического вида и, следовательно, месту в системе биогенеза. Не случайно, говоря о них, И. Бродский применительно к христианскому городу употребляет слово тотем. Эти львы, пишет он, «все равно чудовища хотя бы потому, что рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы эти животные водились, пусть и в бескрылом состоянии» (236; 88). Определение чудовища помещает львов в более древний и, казалось бы, менее достоверный разряд химер, изображениями которых тоже полна Венеция. Но водный город, как мы уже говорили, не поддается проверке на достоверность, что требует и особой манеры разговора о нем. Поэтому И. Бродский, говоря о структуре своих венецианских эссе, замечает: «„Италия, — говорила Анна Ахматова, — это сон, который возвращается до конца ваших дней“. Впрочем, следует отметить, что сны приходят нерегулярно, а их толкование нагоняет зевоту. Кроме того, если бы сон считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, непоследовательность. По крайней мере в этом можно видеть оправдание просочившегося на эти страницы» (249; 121). А поскольку, по утверждению И. Бродского, «сон есть верность закрытого глаза» (250; 123), отсутствие достоверности вовне отчасти компенсируется достоверностью внутреннего видения и достоверностью чувства, разумеется, в той мере, в какой они могут быть достоверными. Отсюда как вполне убедительная, почти реальная, возникает та мифологическая ось, которая в образной системе И. Бродского «пронзает» Венецию, явившуюся в этот мир из бесконечного. При этом филогенез в Венеции И. Бродского тесно связан с онтогенезом, и потому человек, осваивая город, меняет лики и как бы заново проходит все стадии жизни. «Все эти бредовые существа, — пишет он, — драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, — пришедшие в нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их обилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды» (233–234; 82).
Я и вид здесь связаны столь же прочно, сколь и в более глубоких слоях филогенеза, когда речь идет уже не о химерах, а о хордовых, рыбах, — образе, очень важном для И. Бродского и потому образующем лейтмотивное движение в свободном сюжете венецианских эссе. Образ этот соединяется с ключевым для всего венецианского текста мотивом воды, наделенной И. Бродским чертами первородной стихии не только в том смысле, что жизнь родилась в водах, но и потому, что вода, даже выступая в функции границы, не столько разделяет, сколько соединяет времена, явления, события, наконец, время и пространство через их отражение в воде. Вода, по И. Бродскому, может быть своеобразным alter ego того или иного человека. «В некоторых стихиях, — замечает он, говоря о воде, — опознаешь самого себя» (206; 4). Благодаря этому соединяющему началу вода, воздействуя на человека, включает его в цепь развития жизни, резонирующую от любого прикосновения. «Что ж, — пишет И. Бродский, — может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, — это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых» («of the good old chordates») (210; 15).
С хордовыми связан у И. Бродского не только человек, но и сама Венеция, в описаниях топоса и архитектуры которой часто встречаются «водные» метафоры и сравнения. Череда таких метафор ступенчато возводит к хордовым природу и человека и города. Называя Венецию «городом рыб», И. Бродский в эссе, как и в своих венецианских стихотворениях, подчеркивает подобие под- и надводного миров. «Гёте назвал это место „республикой бобров“, — пишет он, — но Монтескьё был, наверное, метче со своим решительным „un endroit où il devrait n’avoir que des poissons“. Ибо и тогда, и теперь через канал в двух-трех горящих, высоких, закругленных полузавешенных газом или тюлем окнах видны подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошная бронза вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок — и кажется, что ты заглянул в рыбу сквозь чешую и что у рыбы званый вечер» (242; 104–105).
Движение этой темы в сюжете эссе нелинейно, что вполне согласуется с законами жанра, но и при отсутствии выраженной поступательной связности в тексте видна тенденция расширения пространства от комнаты-рыбы до дома и всего города уже не только как обители рыб, а как цельного подводного царства. При этом дом и город, как это часто бывает в русской литературной венециане, метафорически соотносятся, и перемещения в венецианском палаццо нарисованы И. Бродским как движение людей-рыб, проходящих «сквозь затонувший галеон с сокровищем на борту, — рта не раскрыть, не то наглотаешься воды» (222; 51–52).
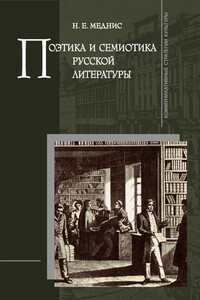
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».