Венеция в русской литературе - [103]
В прозаическом варианте аудиальные образы несколько приглушены, звон заменен позвякиванием, но появляются дополнительные характеристики звука, связанные с замещением коробки — серебряным подносом, помещенным в верхней точке пространства, в небе, так что звук, как и колокольный звон, течет сверху вниз. Более того, прозаический вариант здесь производит впечатление текста, сознательно ориентированного на поэтизмы, как то кисея, серебряный, жемчужном. Проза, как видим, устремляется к поэзии, слегка пародируя ее, но одновременно она от поэзии и отталкивается, ибо основная тенденция в адаптации поэтических образов к прозаическому контексту у И. Бродского базируется на последовательном сломе поэтического ритма путем перестраивания фразы, включения новых слов и словосочетаний. Это не означает избегания ритмических вкраплений в венецианскую прозу вообще — они нередко появляются в «Набережной неисцелимых» и «Watermark». Хотя сопоставлять ритмические периоды английского, на котором написаны обе книги о Венеции, и русского языков весьма затруднительно, в случаях с сохранением при переводе синтаксиса и порядка слов английского текста ритм, сходный с поэтическим, ощущается достаточно отчетливо. Причем ритмическое сходство возникает у И. Бродского, как правило, тогда, когда текстовый фрагмент образно с поэзией не соотносится. Вот один из сравнительно многочисленных примеров: «Seasons are metaphors // for available continents, // and winter is always somewhat // antarctic, even here» («Времена года суть метафоры // для наличных континентов, // и в зиме есть всегда что-то // антарктическое, даже здесь») (116; 247).
Таким образом, венецианские стихотворения и проза И. Бродского, оставаясь самими собой, оказываются взаимопроницаемыми и на метасловесном уровне предельно сближаются, воссоздавая применительно к Венеции цельную концепцию, наиболее полно развернутую в прозе, но с постоянной оглядкой на поэзию.
Венеция для И. Бродского никогда не замыкалась в ее географической и исторической реальности. Она являет собой воплощение разноуровневых универсалий, наиболее очевидная из которых связана с абсолютной красотой, наименее зримая — с началом творения мира и началом жизни. В венецианской прозе И. Бродского речь идет не только о метафизической Венеции, но и о ее онтологической сущности. Говоря о водном городе, художник постоянно оперирует словами вечность и вселенная. Это те измерения, которые, как ему представляется, единственно подходят к Венеции и помогают понять ее глубинную надвещную природу. Функциональная масштабность города по отношению к онтологическим аспектам времени и пространства состоит, по И. Бродскому, в том, что город не только соразмерен им, но и воздействует на них, выступая в демиургической ипостаси. «Вода равна времени и снабжает красоту ее двойником, — пишет И. Бродский. — Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит» (254;134).
Однако красота, при всей ее значимости, предстает у И. Бродского как явление внешнее и по отношению к городу, и по отношению к человеку. Поэтому красота вообще и красота Венеции, в частности, неразрывно связана у него со зрением и иногда трактуется как нечто условно-математическое (геометризм) и физическое одновременно. Порой И. Бродский даже говорит о ней языком физика или физиолога: «Красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом» (244; 109). Поэтому видение как процесс и результат чрезвычайно важно для него. Венецию он определяет как «город для глаз». «Здесь у всего общая цель — быть замеченным», — пишет И. Бродский (215; 28). В его системе суждений такого рода утверждения не содержат ни грана принижения по отношению к Венеции. Напротив. Глаз для него — важнейший из человеческих органов, обладающий наибольшей самостоятельностью. «Причина в том, — поясняет И. Бродский, — что объекты его внимания неизбежно размещены вовне. Кроме как в зеркале глаз себя нигде не видит. Он закрывается последним, когда тело засыпает. Он остается открыт, когда тело разбито параличом или мертво. Глаз продолжает следить за реальностью при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды» (243; 106). Доверие глазу в системе И. Бродского почти абсолютно. Глазу он, художник слова, доверяет гораздо более, чем перу. «Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого», — пишет он (212; 21).
Глаз, сохраняя свою самостоятельность, по мысли И. Бродского, полностью подчиняет себе тело, а поскольку Венеция как воплощение красоты есть «возлюбленная глаза», тело здесь особым образом включается в городской пейзаж. В отдельные мгновения оно как бы теряет само себя и становится точкой, перемещающейся в гигантской акварели водного города («a small moving dot») (241; 102). Так возникает эффект, подобный вхождению в картину, в результате чего личность радикально трансформируется, обретая черты соприродности с окружающим миром. Сам же этот мир, покоящийся на водах и из них рожденный, выступает у И. Бродского в своем роде аналогом всемирного женского лона, где зародилась и развилась жизнь. Поэтому в его венецианских эссе столь сильно и последовательно звучит мотив первородности, к которой приобщается человек в Венеции. Он словно начинает в своих ощущениях движение вспять, к исходной точке. И. Бродский отмечает этапы этого пути, начиная с ближайшего приобщения к животному миру, а от него — в бесконечную глубь тысячелетий до начала начал, до хордовых, обживших воды. Ощутив себя маленькой точкой огромной акварели города, художник в переживании безграничного бездумного счастья вдруг ощущает себя котом, замечая, что даже последующие перемещения во времени и в пространстве, связанные с перелетом в Нью-Йорк, не смогли прогнать это чувство. «Кот все еще не покинул меня», — пишет И. Бродский (242;103).
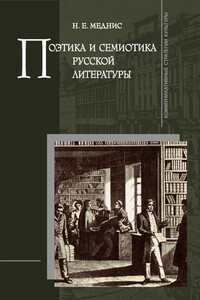
Книга объединяет работы, посвященные поэтике и семиотике русской классической литературы. Значительную часть составляют исследования творчества А. А. Пушкина, а также Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева и др. Самостоятельный раздел занимают работы о проблемах исследования сверхтекстов, о семиотике культуры и литературы.Книга адресована специалистам в области истории и теории литературы, филологам, а также всем интересующимся русской классической литературой и русской культурой.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».