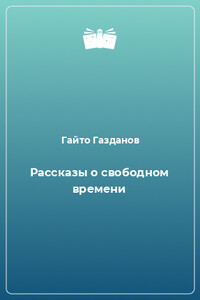Великий музыкант - [18]
Это была успокоительная мысль, появлявшаяся всякий раз, когда слишком напряженное чувство требовало отдыха, — так бывало во всех трудных обстоятельствах и после чьей-нибудь смерти, например; и казалось странно, что такая почти бессодержательная мысль могла меня отвлекать и заполнять мое воображение на многие часы. Я помню, как умер один из самых близких мне людей, и я не знал, о чем мне думать и где найти во всем громадном количестве, во всей вселенной вещей, которые я мог себе представить, хоть одно небольшое место, куда не достигла бы мысль об этой смерти; и тогда я впервые стал думать о море, музыке и расстоянии — и это успокоило меня; раньше же я искал утешения в вещах личных и близких мне и потому непосредственно отразивших в себе мое чувство, а нужно было думать о больших и чуждых лично мне, о почти отвлеченных понятиях. Потом я неоднократно вспоминал об этом; и в силу привычки теперь эта мысль появлялась во мне, всплывая из глубины воспоминания и успокаивая меня.
На следующий день я должен был уехать из Парижа; я получил телеграмму, вызывавшую меня за границу по очень важному делу.
Я вернулся в Париж глубокой зимой, в феврале месяце. Вечером в кафе — как этого и следовало ожидать — я встретил Шувалова, который рассказал мне, что события приняли чрезвычайно плохой оборот.
— Почему? — спросил я.
— Я не говорю о Франсуа, который медленно и верно спивается, — сказал Алексей Андреевич. — Вы помните его слова о Елене Владимировне: «Elle a traverse mon existence, je suis coupe en deux et au fond je suis fini»[33]. Итак, мы не говорим о Франсуа, который, между прочим, написал новую книгу «Казакова в Элладе». Но вот Елена Владимировна имеет все основания быть недовольной своей судьбой.
— Великий музыкант ее не любит?
— Любит или не любит, это другой вопрос. Но он ее бьет.
— Что? — сказал я, не поверив своим ушам.
Вместе с тем это была совершенная правда. Ромуальд Карелли должен был изменить свой образ жизни, должен был отказаться от автомобиля и известной роскоши и жить только на скромные деньги, которые Елена Владимировна с трудом зарабатывала уроками, переводами и даже шитьем. Иногда ей помогал Франсуа. Великий музыкант не умел и не хотел работать. Будучи деспотическим по натуре и, в сущности, чрезвычайно примитивным человеком, с характерной для сутенера психологией, он не мог вести себя иначе; и неудовольствие от того, что у него мало денег, он выражал тем, что бил Елену Владимировну. Она приходила в кафе изредка, в старом платье и смешном и немодном манто, чтобы попросить немного денег у Франсуа; глаза у нее были покрасневшие, лицо опухшее — может быть, от болезни, может быть, от ударов.
— Как? Елена Владимировна? Гордая красавица?
— Гордая красавица, — спокойно подтвердил Шувалов.
— Это непостижимо. Почему же она его не бросит?
— Я не хотел бы прибегать к точным определениям. Я думаю, не хочет и не может.
— Надо на нее воздействовать.
— Думаю, что это бесполезно.
— Но это не может так продолжаться.
— Да, Борис Аркадьевич тоже так думает. Сегодня вечером у него, кажется, будет объяснение с Великим музыкантом. Если хотите, пойдемте со мной. Наверное, Борис Аркадьевич уже будет там.
— Да, конечно.
Мы вышли из кафе в половине первого ночи и направились к квартире Елены Владимировны, у подъезда которой должна была произойти встреча Великого музыканта с Борисом Аркадьевичем. Вернее, Борис Аркадьевич решил стоять у дверей дома и ждать возвращения Великого музыканта — тот приходил домой к часу ночи примерно, — с тем чтобы указать ему, как это формулировал Шувалов, на совершенно очевидную некорректность его поведения по отношению к Елене Владимировне.
— Сомнительно, чтобы он два часа ждал на морозе исключительно для удовольствия произнести эту вежливую фразу, — не удержавшись, сказал я.
— Возможно, что он выберет другое эквивалентное выражение, — ответил Шувалов, особенно подчеркивая слово «эквивалентное».
В этот час на улицах было пустынно; только где-то далеко завизжали за углом тормоза автомобиля, и все снова стихло. Было очень холодно, я поднял воротник своей шубы.
— Нам далеко? — спросил я Шувалова.
— Нет, не очень, — ответил он. И мы продолжали идти.
Если бы все это происходило в иных обстоятельствах, я бы, наверное, заговорил бы о чем-нибудь с Алексеем Андреевичем. Но в те минуты смертельная тоска так владела мной, что я не мог сказать ни одного слова, мне казалось, что оно прозвучало бы лишне и ненужно — точно бы с другой стороны уже совершившегося события — и что его не следовало произносить. Я только хотел, чтобы все кончилось как можно скорее. Но мы шли минут десять; а мне они показались целым часом. Наконец Шувалов остановился. Я увидел перед собой узкую улицу, освещенную одним фонарем и соединявшую rue de Vaugirard, где мы стояли, с площадью St. Sulpice. Почти тотчас же, шагах в пятидесяти от нас, я увидел широкую фигуру Бориса Аркадьевича. Он стоял в своем туго застегнутом пальто, в мягкой шляпе, с тростью в руке.
Впоследствии, вспоминая все, я думал, что в тот момент Сверлов действительно был похож на джеттаторе — этот неподвижный, немой силуэт в неверном зеленоватом свете фонаря на углу пустынной и узкой зимней улицы. Но тогда я об этом не думал.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
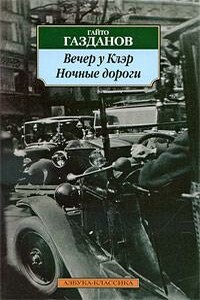
"Вечер у Клэр" - воспоминания русского эмигранта о детстве и отрочестве, гражданской войне и российской смуте, в которые он оказался втянут, будучи шестнадцатилетним подростком, и о его искренней и нежной любви к француженке Клэр, любовь к которой он пронес через всю свою жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В обзоре „Современные записки“ Николай Андреев писал: «Лишь относительно удачно „Счастье“ Гайто Газданова. Прекрасно начатый, отличный во многих своих частях, обнаруживающий глубину и силу авторского дыхания, как всегда у Газданова, полный психологического своеобразия, рассказ этот оказался растянутым, лишенным единства, перегруженным проблематикой, риторикой. Газданов отказался на этот раз от непрерывного повествования, столь удающейся ему плавной неторопливости рассказа. Он, однако, не перешел и к какой-либо конструктивности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.