Варфоломеевская ночь: событие и споры - [43]
В XVI в. статус парижского буржуа определяется как отношением его с королем и королевской юстицией (иначе говоря, носил "персональный" характер), так и отношением с городом и подвластной ему территорией (т. е. имел еще и "реальный" характер)[232]. В недрах этого диалектического отношения и функционировали парижские привилегии. Символическая ценность этих привилегий определялась причастностью к королевскому Делу, существованием в рамках городской общины с ее мистическими корнями, местными реликвиями и ритуалами[233].
Теория мистического и политического тела (corpus mysticum et politicum), порожденная соединением идущей от римского права теорией corporatio с теологической концепцией universitas и тесно связанная с понятиями общего блага (res publica), к концу средневековья стала приложимой к любому коллективу, наделенному статусом юридического лица (persona ficta, persona publica)[234].
Развитие городской знаковой системы, при помощи которой парижская община осмысливала свои привилегии, следует соотносить не столько с "республиканской" идеологией, якобы противостоявшей королевскому всемогуществу, но, скорее, с органицистской идеей, которая включала всю городскую общину в базовую структуру "король-королевство", понимаемую как единое тело.
Первой специфической чертой знаковой системы Парижа был столичный статус этого города. Происходившее здесь взаимодействие между местными реликвиями и культами и теми культами, что имели общекоролевское значение, приводило к синтезу корпоративной концепции монархии с корпоративной концепцией столицы как главы всех городов и сердца королевства.
В связи с этим вторую важнейшую черту парижской знаковой системы можно назвать "корпоративным католицизмом". Это понятие, которое следует трактовать не в теологическом, а в антропологическом значении (не как веру, но как верования), было чем-то вроде "гражданской религии"[235], призванной цементировать чувство общности горожан. Ритуалы, при помощи которых община выставлялась на публичное обозрение, не были простым отражением существующих социальных структур, они являлись также актом ее постоянного восстановления, апеллируя к ее прошлому и будущему[236].
Третьей чертой символики парижских буржуа была огромная роль идеи корпоративной репрезентации — столь важной для коллективного самоутверждения, но она также была и поводом для многочисленных конфликтов, например споров о месте в процессии.
Барбара Дифендорф метко определила парижские процессии: "…ритуалы представляли собой сплав гражданских, королевских и католических символов: социальное тело-корпус, политическое тело и тело Христово были в них нераздельно переплетены"[237]. Примерно такова была и символика парижского герба, резюмирующего три черты муниципальной истории. Корабль напоминал об изначальной корпорации купцов, торговавших по Сене, ставшей ядром парижской коммунальной системы, обеспечившей привилегии парижских буржуа. Червлень символизировала "кровь святого апостола", приведшего город в лоно христианства. Золотые лилии были для гербов французских "добрых городов" обычным знаком королевской власти[238]. Таким образом, связь с королем, связь с Богом и взаимосвязь жителей коммуны образовывали символическую ткань парижских привилегий.
Парижская символика строилась вокруг корпоративного союза между общиной столицы с королем. Еще в 1356 г. сторонники Этьена Марселя избрали своей эмблемой лилии и лазурь — цвета короля и Девы. Выступая против конкретного правителя, они (как, впрочем, и большинство средневековых мятежников) подчеркивали свою приверженность абстрактным символам королевской власти. В ту пору официальными цветами Парижа были красный и белый. Но после восстановления парижского муниципалитета в 1412 г. (упраздненного после восстания 1382 г.) должностные лица города, его лучники и арбалетчики стали носить красно-синие ливреи. Кстати, сразу же после восстановления должности купеческого прево и эшевенов королевские лилии стали помещаться в верхней части городской печати. Так называемая "геральдическая глава" Парижа, как и во многих других городах эпохи Столетней войны, указывала на особое королевское покровительство.
В начале следующего, XVI столетия в символике цветов произошли новые изменения. Пурпурный стал считаться цветом вечного достоинства королей, знаком их величия[239]. Синий, бывший некогда геральдическим цветом Капетингов, означал теперь персону царствующего короля. Соединение красного и синего было поэтому особо красноречивым. Во время въезда в Париж Анны Бретонской в 1504 г. купеческий прево и эшевены надели двуцветные мантии — малинового и коричневого цвета. Темно-коричневый в ту пору считался цветом ремесленников и народа, в коричневое были одеты и францисканцы. Этот цвет не нес никакой самостоятельной геральдической нагрузки. Но, как утверждает М. Пастуро, никакой цвет не имел определенного значения вне контекста[240]. Свой смысл он обретает лишь в связи или в оппозиции с другим цветом. Красно-бурые мантии оказываются вписаны в жесткую систему символов. Красное отсылает к политическому достоинству короля, представителями которого считаются прево и эшевены, коль скоро они давали ему присягу. Темно-коричневый цвет носили квартальные — ключевые фигуры городского репрезентативного режима. Этот цвет указывал также на ремесленные корпорации, объединявшие широкие слои парижских буржуа. Соединение королевского и "ремесленного" цветов в мантиях городских должностных лиц (тех же цветов была и шляпа, в которую кидали бюллетени для голосования во время выборов эшевенов) могло означать гармонию королевской власти и системы городских корпораций и коллегий. Но это указывало и на двойственный характер должностей купеческого прево и эшевенов. Перед парижанами они выступали как представители власти короля и блюстители его интересов, а перед лицом королевской власти они представляли парижан. Прокурор города и короля считался в первую очередь человеком короля и носил алую мантию, как все магистраты. Сборщик городских налогов, фигура наиболее поздно появившаяся среди муниципальных должностных лиц, не считался носителем публичной власти и носил лишь черный плащ.
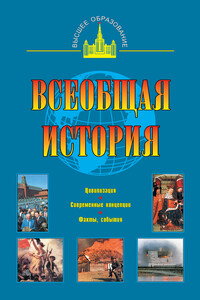
Серия предназначена для студентов высших учебных заведений, а также абитуриентов. Книги этой серии написаны ведущими специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
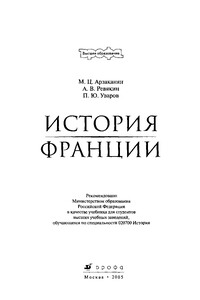
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
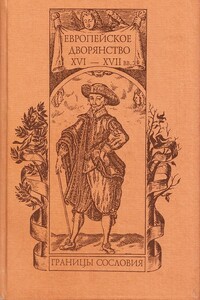
В данном коллективном труде, посвященном европейскому дворянству XVI–XVII вв., для исследования был избран следующий круг вопросов: Определение знатности и дворянского статуса: самооценка, юридическая практика, общественное мнение. Соотношение экономических, политических, этносоциальных, конфессиональных и прочих факторов в определении границ сословия. Численность и «удельный вес» дворянства, их динамика. Региональные различия. Районы повышенной концентрации дворянства. Доказательства принадлежности к дворянству, их эволюция.
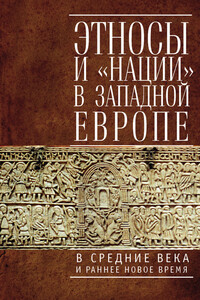
Настоящая монография стала итогом работы одноименной общероссийской конференции медиевистов, состоявшейся на историческом факультете МГУ 15–16 февраля 2012 г. На обширном историческом материале исследуются этнические и протонациональные дискурсы, а также обусловленные ими практики в Европе в Средние века и раннее Новое время. Особое место уделено факторам, определявшим специфику этнополитических процессов в композитарных и сложных по этническому составу государствах.Для историков, политологов, социологов, а также интересующихся этнической историей европейских народов в Средние века и раннее Новое время.
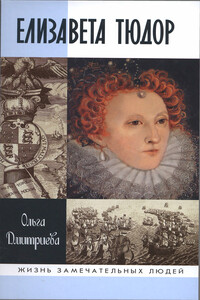
Эта книга — рассказ о незаурядной женщине, государыне, которая дала имя целой эпохе — успех, выпадающий не многим политикам. При Елизавете Англия из заштатного государства превратилась в великую мировую державу. Семнадцать монархов сменились после Елизаветы на троне Британии, но каждый убеждался, что она — эталон, с которым соотносили всех последующих. Королева далеко опередила свой век и в своих убеждениях. В мире, чуждом терпимости, она шла путем разума и толерантности, пытаясь отстоять права каждого, и свои в том числе, жить в согласии с собственной верой и чувствами.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

В ноябре 1979 года архиепископ Курский и Белгородский Хризостом рукоположил меня во иерея и послал на отдаленный сельский приход со словами: "Четырнадцать лет там не было службы. Храма нет, и прихода нет. И жить негде. Восстановите здание церкви, восстановите общину — служите. Не сможете, значит, вы не достойны быть священником. Просто так махать кадилом всякий может, но для священника этого мало. Священник сегодня должен быть всем, чего потребует от него Церковь". — "А лгать для пользы Церкви можно?" — "Можно и нужно".