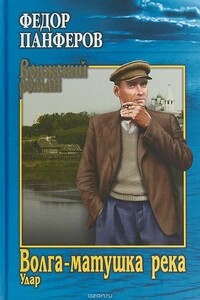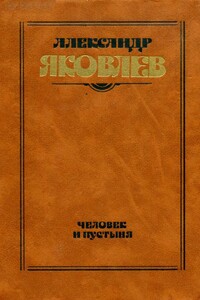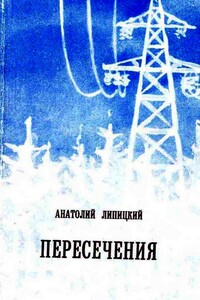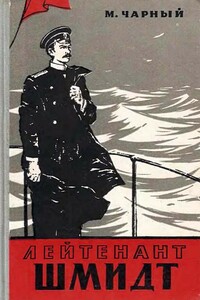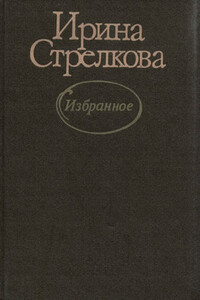— Очень хорошо делаете, Яков Иванович. Ведь если ту пакость не уничтожить, она вас уничтожит: тиф заведется.
— И всякая прочая дрянь, — жестко кинул Макар Петрович.
Анатолий Васильевич одобрительно кивнул Нине Васильевне, а Макар Петрович, скупой на слово, с удивлением посмотрел на нее, думая: «Экая мастерица: сразу расположила человека! Я так не умею».
Вдохновленный таким обращением, Яня осмелел и, уже посматривая на генералов, начал рассказывать о быте, нравах партизан. Рассказывал он просто и откровенно, как будто сидел в кругу своих родных и знакомых. Затем перешел к карателям и тут даже позеленел:
— Нет моего понятия о них. Нет. Ну, волк — зверь лютый, да ведь и тот столько не напакостит, сколько они! К примеру, мы одного такого, по фамилии Кап, словили. Что наделал? Заявился с карательным отрядом в одну деревушку, где жили женщины с грудными ребятами, ребятишки да старики… остальные в партизаны ушли. Так этот Кап что сделал? Согнал всех в две избы, будто для переписи, затем двери припер кольями, облил бензином и поджег. Все сгорели. На допросе спрашиваю его: «Ну, взрослых поджег — туды-сюды, и то в голове не укладывается, а детей-то зачем казнил? Их-то за что?» — «Приказ, слышь, выполнял». — «Какой приказ?». Молчит. Потом спрашиваю: «Ну, а что ты будешь делать, отпусти тебя?» — «Слышь, работать». Эх, нет, к труду мы такую зверюгу не подпустим… и повесили. В селе одном. Народу было! — Яня неприязненно улыбнулся. — А вешать-то не умеем. Подвезли его на грузовике, петлю закинули, да не так. Грузовик дернулся, а гад из петли на землю — бряк! Мы его, значит, опять на грузовик.
Рассказывал Яня долго, интересно, и все слушали его с большим вниманием, уже не перебивая вопросами. Но тут в комнату вошел Галушко и доложил:
— Москва, товарищ командарм.
Анатолий Васильевич сразу подбодрился, мелким шажком подбежал к особому телефонному аппарату, взял трубку:
— «Лавина» слушает. Да. Командарм Горбунов. А-а-а! Кузьма Васильевич. Здравия желаю! — и всем пояснил: — Громадин, из Москвы, — и опять в трубку: — Да, здесь. Здесь он. Рукой дотянусь. Что ему передать? Ага. Отправиться за Днепр, на реку Друть. Друть? Дуня-Рыдай-Угар-Тима? Так? Друть. Хорошо. И ждать… вызовешь его. Познакомиться с обстановкой, с людьми. Хорошо. Передам. Постой! Постой! Что новенького? Ну, как ничего нет! Еще бы! Скрываешь. Нет. Ты расскажи, расскажи. Эко как грохочешь! — Анатолий Васильевич отвел трубку от уха и снова приблизил. — Оглушил было меня. Ну что ж, не хочешь новенькое сказать, всего тебе хорошего, — и, положив трубку, обратился к Яне Резанову: — Слышали, какое новое задание вам… и нелегкое. Друть? Это вот здесь, — он подвел Яню к карте и показал сначала на Днепр, на город Рогачев, затем на реку Друть. — Вот где. Тяжеленько будет вам.
Яня Резанов отошел от карты, потоптался на месте и, почему-то виновато улыбаясь, произнес:
— Жалко… уходить: будто дома я.
— Как? Вот сейчас? Вы переночуйте, отдохните, — предложил Анатолий Васильевич.
Яня настойчиво посмотрел куда-то в сторону:
— Нет. Приказ дан от генерала — значит, выполняй не медля.
— Ну, это по-солдатски. Желаю счастья, — и Анатолий Васильевич спохватился: — Ах да, вам надо человека, чтобы проводил по ту сторону. Я сейчас позвоню полковнику Плугову.
— И-и! — протянул Яня. — Меня только выпусти, я и пошел: везде мои тропы, везде мои дороги. Доберусь, товарищ командарм.
Простившись со всеми за руку, он вышел из хаты и окунулся в темную ночь.
2
Ночь темная, непроглядная…
Выйдя со двора, Яня остановился, прислушался: по еле уловимому шороху шагов догадался, что неподалеку передвигаются часовые.
«Мимо них прошмыгну, а то опять в штаб потащат!» — решил он и потянул носом.
Справа несло особой, фронтовой гарью.
«Значит, там линия», — решил он и, крадучись, неслышно пошел на запах гари. Иногда останавливался, вытягивая шею, вертя головой, как это делает птица, сидя на дереве, отыскивая себе пищу. Временами запах гари пропадал, тогда Яня мусолил палец, поднимал его вверх и по легкому холодку определял, откуда дует ветер, и шел на него.
К утру он уже был в дивизии полковника Михеева. Тот позвонил в штаб армии и, убедившись в том, что партизан идет по особому заданию, накормил и уложил Яню спать в своем блиндаже. А как только стемнело, Яня снова вышел на волю и скрылся в темной ночи.
Не немцев боялся он во время перехода линии фронта, а мин. К любому часовому Яня приближался бесшумно и, если надо было, снимал его. Подкравшись со спины, он выхватывал сапожный нож и насмерть бил меж лопаток. А мин боялся.
— На нее, на собаку, нарвешься — и полетишь вверх тормашками, — всякий раз бормотал он, переходя через линию фронта, и, чтобы не наскочить на мину, всегда выбирал берег глухой реки или лес с завалами.
Вот и сейчас он идет заросшим берегом речушки, по-кошачьи ступая на землю. Иногда кажется, он двигается на лыжах: приседает, изгибает спину и толкается вперед… Но вот послышался какой-то посторонний скрип. Кто это: зверь или человек? Яня опустился на корточки и запищал, как заяц, когда его душит лиса. Через минуту послышался смех и кто-то благодушно о чем-то заговорил на немецком языке.