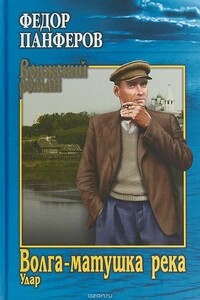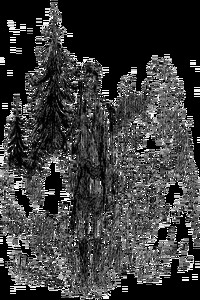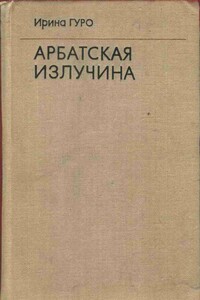Вскоре прогремел первый трамвай, затем проплыли троллейбусы, промчались грузовые машины, понеслись велосипедисты. Через какие-нибудь полчаса Москва зашумела на разные голоса и во все стороны двинулись люди.
Москва! Москва!
Еще опущены шторы — затемнение на твоих глазницах-окнах, еще размалеваны разными красками дома, в которых голодно и зябко жителям твоим… Но недалек тот час, когда ты сбросишь с себя это принужденное. Недалек тот час. Ведь совсем недавно враг был на твоих подступах, готовя удар в лицо…
Москва! Москва!
— И улицы родные, и тротуары родные… и дома родные. Все и всё родное, мое, любимое, — проговорил он, всходя на мост.
По мосту бесконечным потоком неслись машины: грузовые — облупленные, как медведи после зимней спячки, легковые — юркие, как лайки… и шли люди с бледными лицами, а глаза у всех хотя и пасмурные, но строгие, упрямые, как у бойцов-партизан во время наступления.
«Устала Москва», — мелькнуло у Громадина, и он невольно задержался: на боковине моста из расщелины гудрона таращилась молодая травка. Глядя на травку, он подумал:
«Вот какая сила к жизни: миллион ног рядом, а она, вишь ты, тянется к солнцу. Жить — это надо уметь, братцы мои! — воскликнул Громадин про себя. Вдруг травка чем-то напомнила Татьяну Половцеву, и он горестно покачал головой: — Ах ты, как же это я записку-то забыл? Вот нехорошо-то! Как нехорошо-то!» — однако чувствовал совсем другое, намереваясь сказать: «Как хорошо-то я сделал, что забыл записку: не то узнает муж, примчится за женой… и пропало наше дело».
Так он стоял несколько секунд, рассматривая травку, думая о Татьяне Половцевой.
— Товарищ генерал, извините, опоздал, — прервал его думы связной офицер. — Не моя вина: покрышка два раза спускала. Садитесь, пожалуйста, — и офицер открыл перед ним дверцу машины.
Громадин не сразу ответил. Он некоторое время смотрел на офицера, желая по его глазам угадать: нахлобучка будет или не нахлобучка, затем спросил:
— Куда?
— В Кремль приказано, товарищ генерал.
— Ага! — садясь в машину, кинул Громадин и снова спросил: — Значит, у вас с этим туго, с резиной?
— А у вас, товарищ генерал?
— У нас? У нас все больше на собственной резине, то есть на своих на двоих, — и тут он вспомнил Яню Резанова.
1
Вечером командарм Анатолий Васильевич Горбунов пригласил Яню Резанова к себе на квартиру, чем Яня был немало удивлен: он все утро просидел в штабе, рассказывая Анатолию Васильевичу и начальнику штаба Макару Петровичу о том, что делается в глубоком немецком тылу, какие части и куда двигаются. После длительной беседы командарм подошел к карте и, ткнув карандашом в городок Рыльск, произнес, обращаясь к начальнику штаба Макару Петровичу:
— Сюда стягивают… значит?
Тот пожевал ядреными губами:
— Сомнительно.
— Для тебя не сомнительно, генерал, когда на место придут? Такое шутя разгадать. — Затем командарм вызвал своего адъютанта Галушко и приказал: — Кормить Якова Ивановича вдосталь… и вина не жалеть.
Яня и направился было в столовую, намереваясь забраться прямо на кухню и вволю поесть: он три дня блуждал по болотам, лесам, пока не разыскал штаб армии, и весьма изголодался. Но только он присел за стол, как явился тот же самый Галушко, сказал:
— Кончай тут, Яков Иванович… генерал требует.
— Ну что ж, дело прежде всего, — с сожалением отодвигая от себя алюминиевую миску со щами, ответил Яня и попросил повара: — Ты, милый, имей в виду, я скоро явлюсь и доем… Значит, еще чего-то нехватка от меня, — добавил он, шагая рядом с Галушко, но когда вошел в комнату, то попятился: за столом, уставленным тарелками и закусками, сидели Анатолий Васильевич, Макар Петрович и какая-то женщина; Яня, смутясь, забормотал. — Извиняемся. Видно, не в час попал. Кушайте, а я обожду.
— Да нет, как раз в час вы попали.
Из-за стола поднялась женщина в цветистом сарафане, небольшого роста, вся складная, простая и энергичная. Она, крепко подхватив Яню под руку, усадила за стол против себя и певуче сказала:
— Не стесняйтесь, Яков Иванович.
«Эх, родственная какая!» — подумал Яня, неотрывно глядя на нее, и вслух:
— Спасибо за ласку. А звать-то как вас?
— Нина Васильевна, жена командарма, — с улыбкой проговорила она, кладя на тарелку пару котлет и жареную картошку. — Вы, наверное, там отвыкли от тарелок да вилок?
— Где уж! — все еще смущаясь, но смеясь, ответил Яня. — Чаще приходится вот так — ладошкой, а то из банки… консервной… И мыла нет, — со вздохом добавил он.
— Да как же вы без мыла-то? — спросила Нина Васильевна.
— А так уж. Белье в больших железных чанах кипятим. Комиссар, товарищ Гуторин, сердитый приказ издал: каждую неделю белье в кипятке держать.
— И что же?
Яня наморщил лоб, и маленькое лицо его стало походить на кулачок.
— Белье? Значит — белое? Таким ему полагается быть, а оно у нас серое. Зато того добра не водится, не за столом будь сказано, — и он вдруг весь вспыхнул, завозился на стуле, готовый подняться и уйти.
— Ничего, — решительно заявил Анатолий Васильевич, — говори все, что думаешь: не белоручки мы, а старые солдаты.
Нина Васильевна за «старые солдаты» неодобрительно посмотрела на Анатолия Васильевича, затем сказала: