В старом доме - [3]
С этою последнею мыслью, усталый, измученный, я крепко засыпаю, и вот мое детское воображение уже рисует мне во сне мирные, безмятежные, дорогие детскому сердцу картины.
Еще задолго до праздников уже начинает чувствоваться их приближение. Не знаю почему, отец всегда принимал, во-первых, вид особой торжественности, строгой и суровой; во-вторых, несмотря на то что он уже был заражен некоторым свободомыслием, по крайней мере, сравнительно с матушкой, женщиной беззаветно религиозной, он в тот же день, когда нас распускали из училищ, брал Библию или Евангелие, садился в зальце за большой стол, и мы все охотно усаживались вокруг него, и дети, и матушка, и даже Акулина. Акулина приносила с собой гребень, скамейку и мочки льна, и ее веретено так гармонично всегда жужжало под мерное и торжественное чтение отца. Мы, дети, да, вероятно, и матушка и Акулина, далеко не все понимали в славянском тексте божественной книги, а отец не считал нужным разъяснять нам, но нам не было скучно, нам так было отрадно вслушиваться в мерный речитатив, как в музыку, и еще отраднее чувствовать тот мир и душевную теплоту, которую вносили эти книги вместе с собой. Прикорнув к коленям матушки или Акулины, долго-долго всматриваешься в лица отца, матери и Акулины – в эти внезапно преображенные лица, и почему-то так захочется обнять их и целовать – так они вдруг сделались и добры, и красивы, и свежи.
Накануне праздников наша мирная аудитория увеличивается: приезжают обыкновенно родственницы матушки, двоюродные сестры и тетки, с ее родины, из села; приезжают и к Акулине кое-кто из ее родных – то сестры-вековушки, то брат, то старичок отец. Тогда наши мирные беседы из зальца, после чтения Евангелия, уже переходят или в спальню к матушке, или же в кухню, к Акулине, за теплую большую печь, и далеко за полночь тянутся простые, бесхитростные рассказы деревенских гостей.
Наконец праздник наш достигает полного расцвета, когда вместе с веселым звоном колоколов и целым облаком пара, если этот праздник рождество, в широко отворенную дверь врывается «наш дорогой ополченец», коренастый, лет под сорок мужчина, в черкесской папахе, черном полушубке и валяных сапогах… Нашему детскому восторгу нет конца!.. Едва он переступает за порог зальца, едва показывается нам его широкое, румяное, гладко выбритое, с большими усами и широчайшею, но в то же время девически стыдливою улыбкой лицо, – мы чувствуем, что теперь «праздник» нашей жизни обеспечен надолго, что нечто новое, такое любовное, свежее и бодрое озарит наше существование…
– Вот и опять мы! – говорит нам ополченец, сияя на всех своею стыдливою улыбкой и вытирая наскоро заиндевелые усы. Он медленно снимает, как бы не решаясь еще остаться, свою папаху, полушубок и, наконец, остается в сером ополченском кафтане, с большим медным крестом на груди.
– Простите… не утерпел… по обыкновению… Скучно одному торчать в своей деревнюшке! – прибавляет он, широко и как будто извиняясь, размахивая красными руками.
– Что вы это?.. Да вы для нас… все равно как родной!.. Не стыдно ли вам так говорить? – восклицает матушка.
А отец уже весь размяк как-то от внутреннего удовольствия и только топчется на одном месте да повторяет:
– Ну!.. ну!.. Полно!..
Наконец, когда, расцеловавшись троекратно с матерью и отцом, наш ополченец – этот одинокий холостяк и мелкопоместный дворянин, раненный в ногу и вернувшийся из Севастополя, – усаживается около печки и закуривает длинную трубку «Жукова», как вполне «свой человек», является и сама Акулина «поклониться барину».
– Милости просим, – говорит она. – Хорошее это дело, что опять пожаловали, батюшка…
– Здравствуй, старая… А что хорошего – другим надоедать, коли некуда себя девать?
– И-и, батюшка, как хорошо-то на людях!.. Что одинокому? К чужой семье прилепишься и то свет увидишь…
– Должно быть, что правда твоя, старуха… А поди-ка ты там с Прошкой опорожни-ка сани да прибери…
– Вынесли, батюшка, все уж вынесли: и поросят и гусей…
– Ну-ну-ну!.. Знай про себя!.. Ступай с богом!..– говорит ополченец и опять стыдливо вспыхивает, как красная девка.
Нас, детей, ополченец старается не замечать совсем и даже бегло и боязливо отводит глаза, когда они невольно встретятся с кем-нибудь из нас. Но мы уже знаем, что в ближайшем будущем ополченец весь будет «наш», со всею своею тройкой, с бубенцами и широкими санями, с севастопольскими рассказали и «Живописным обозрением», запрятанным до поры где-нибудь у кучера Прошки, вплоть… до вырезывания бумажных коньков и транспарантов. Но только не надо насиловать ополченца, не надо приставать к нему, иначе… может случиться, что он вдруг «сконфузится этого своего поведения» и стыдливо уйдет в себя и даже, как бывало, возьмет и неожиданно уедет. Мы с детскою чуткостью уже хорошо понимали его. Знали мы, что ему нужно дать время, чтобы сам он «вошел в роль».
Вот сначала, в первые два-три дня, усевшись с отцом и матерью в «гостиной», между жарко натопленными печами, попыхивая «Жуков» в черешневые чубуки, бесконечно долго и неторопливо поведутся беседы. Иногда мы, ребята, очень мало понимали, о чем говорили они, но нам приятно было, усевшись в уголку, смотреть на ополченца, на батюшку и матушку, лица которых оживлялись все больше, и взгляды их становились такими любовными, добрыми. Притом же мы знали, что ополченец будет оживляться все больше с каждою беседою, что все чаще будет он закручивать свои длинные усы и вот, наконец, перейдет к своим «севастопольским рассказам»… Шаг за шагом, день за днем расскажет он весь поход «нашего» ополчения: и проводы ополченцев с родины, и встречи их в попутных городах, и их тяжелый путь под дождем, в грязи, часто в изодранных сапогах и армяках, которые расползались раньше, чем приходили они к месту назначения… А потом и Севастополь!.. Подвиги простой серой массы, самоотвержение героев и сестер милосердия, страдания раненых, скорбь братьев, отцов и матерей – все это вставало перед нами как живое, и, затаив дыхание, мы не спускали по целым часам глаз с нашего «ополченца», который, совсем забыв свою девическую стыдливость, стоял перед нами среди комнаты уже настоящим севастопольским героем, воином, который вместе с нами снова переживал великие дни великой борьбы за родину… Как он хорош был тогда! А умилению окружающих не было конца: слушать его собирались не только мы, но и все наши сельские гости, и матушка вызывала даже Акулину из кухни, со всеми ее родными, какие в то время гостили у нее, называла ее «Акулинушкой» и усаживала у двери.

«Лето я провел в одной деревеньке, верстах в двадцати от губернского города, значит – «на даче», как говорят в провинции, хотя вся дача моя заключалась в светелке, нанятой за три рубля во все лето у крестьянина Абрама....».

«Он шел изнеможенный и усталый, покрытый пылью. Путь его был долог, суров и утомителен. Впереди и позади его лежала желтая, высохшая, как камень, степь. Солнце палило ее горячими лучами, жгучий ветер, не освежая, носился и рвался по ней, перегоняя тучи сухого песку и пыли...».

Николай Николаевич Златовратский – один из выдающихся представителей литературного народничества, наиболее яркий художественный выразитель народнической романтики деревни.

«Когда я был еще студентом, Левитов занимал уже видное место среди молодых русских писателей. Тогда только что вышли его «Степные очерки» в двух маленьких красных книжках, в отдельном издании Генкеля…».

«Спустя несколько лет после рассказанной мною истории с Чахрой-барином пришлось мне поселиться в Больших Прорехах надолго: я задумал построить на земле своей племянницы хутор. На все время, пока заготовляли материал для стройки, пока строилась сама изба, я должен был поселиться у кого-либо из прорехинских крестьян...».

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
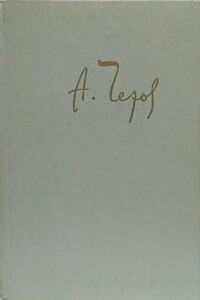
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
