В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры - [6]
В этом мне помогут авторские фотографии последних десятилетий социализма. В 1960–1980-е годы профессиональная фотография существует в самых многообразных жанрах (от «социальной фотографии» до городского пейзажа), в самых многообразных регистрах (от драмы до сарказма) – она, безусловно, чувствует себя свободнее от официальных канонов и активно осваивает новые принципы съемки. Появляются небольшие неформальные творческие сообщества – например, группа ТРИВА, возникшая в Новосибирске на рубеже 1970–1980-х годов. Входившие в нее фотографы – Владимир Воробьев, Владимир Соколаев, Александр Трофимов – отдавали предпочтение методу «свободной охоты», отказываясь от постановочных кадров, от кадрирования и ретуши отснятого материала.
Но критерий отбора фотографий, о которых я предполагаю здесь поговорить, связан не с принципами съемки, не с жанровой принадлежностью, а с почти неверифицируемым эффектом восприятия (причем не важно, насколько он задумывался и осознавался фотографом) – все эти снимки в той или иной степени обладают способностью казаться визуализацией утопического. Мне хотелось бы увидеть в этом эффекте не одно из возможных свойств фотографии как медиума и даже не одно из возможных свойств позднесоветской, в особенности альбомной, фотографии (хотя подобные интерпретации представляются вполне допустимыми), но прежде всего определенный визуальный навык, социальный опыт взгляда, который позволит прояснить, что такое утопия.
1
Цель всех человеческих усилий заключается в достижении счастья… Нельзя создать худшей системы для достижения желаемой нами цели, чем действующая ныне у всех народов мира… Ни один предмет нигде не наблюдается человеком в его подлинном виде.
Роберт Оуэн. «Описание ряда заблуждений и бед, вытекающих из прошлого и настоящего состояния общества»(Перевод С. Фейгиной)
Итак – что все‐таки мы имеем в виду, апеллируя к утопии? Где локализовано утопическое? Можно ли уловить особое «утопическое мышление», как предполагалось на ранних этапах utopian studies, или попытки сделать это неизбежно сведутся к описанию механизмов любой идеализации, вовсе не обязательно утопической? Можно ли говорить о специфике «утопических проектов», или в этом ракурсе всякое проектирование будет расцениваться как утопия?
В последние годы теоретическую востребованность все больше приобретает формула «утопия как метод» – именно так, скажем, озаглавлено предисловие Тома Мойлана и Раффаэллы Бакколини к составленному ими сборнику «Утопия-Метод-Ви́дение» (Moylan, Baccolini, 2007); эта же формула используется в названии монографии Рут Левитас «Утопия как метод. Реконструкция воображаемого общества» (Levitas, 2013) etc. Под утопическим здесь понимается уже не некое базовое свойство сознания, выражающееся в склонности проектировать идеальные общественные устройства, но сложный когнитивный аппарат Нового времени, который может стать частью исследовательского инструментария. В статье «Утопия как метод, или Использование будущего» Фредерик Джеймисон сжато излагает собственную концепцию, где центральное место занимает остроумное противопоставление герметичных «утопических программ» и рассеянных в повседневной реальности «утопических импульсов» (последний термин он заимствует у Эрнста Блоха). К малоинтересным ему «программам» Джеймисон переадресовывает все претензии, предъявлявшиеся в XX веке к утопии; а притягательные «импульсы» наделяет свойством высвобождать альтернативные возможности, которые в данной культуре оказались «подавленными и парализованными» (Jameson, 2010: 41; см. также: Jameson, 2005: 2–9). На распознавании утопических импульсов и следовании за ними, собственно, и основывается джеймисоновский метод «утопологии» (Jameson, 2010: 41).
Такая теоретическая оптика, по сути, вводит в utopian studies проблематику воспринимающего субъекта (хотя это не декларируется прямо); утопия, понимаемая как метод, – своего рода стекло, через которое исследователь пытается рассмотреть смысловые рубежи актуальной культуры. Вместе с тем, чтобы практиковать утопию как метод, требуется более или менее осознанное решение и определенные убеждения. Конечно, это лишь один из многих способов утопической рецепции, которая все‐таки несводима к отчетливой дихотомии дидактичных «программ» и вдохновляющих «импульсов». Попытка определить утопию как метод и ви́дение почти исключает из рассмотрения опыт взгляда, направленного не через утопическое, а на утопическое. Дальше я попробую вернуться к более буквальному значению слова «ви́дение» и опереться в своем определении утопического на опыт пространственного восприятия.
В теоретическом плане такую опору предоставляет работа французского семиотика и философа культуры Луи Марена «Утопики: игры пространств» («Utopiques: jeux d'espaces») (Marin, 1990 [1973]), оказавшая существенное влияние на развитие современных utopian studies. Книга Марена, отчасти эзотеричная и визионерская, в то же время задает отчетливые, жесткие рамки для размышлений об утопическом. Рассматривая утопическое как изобретение Томаса Мора и исходя в своих рассуждениях из детального разбора «Золотой книжечки», Марен в первую очередь обращает внимание на ее название, из которого следует, что «утопия» – это «несуществующий топос» (ου-τοπία) и «благой топос» (ευ-τοπία), но прежде всего – это в принципе «топос», то есть нечто, определяемое в пространственных категориях. Место утопии невозможно, вненаходимо с точки зрения географии и истории, и вместе с тем утопический дискурс выстраивается при помощи географических и исторических координат. Утопия по Марену – это «лакуна», резервная территория, необходимая при том характерном для Нового времени режиме конструирования социальной реальности, который основывается на стремлении не оставлять «белых пятен» ни на географической карте, ни в исторической хронологии. Утопия – это «пространство без места» (Marin, 1990 [1973]: 57).

Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.

Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.

В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.
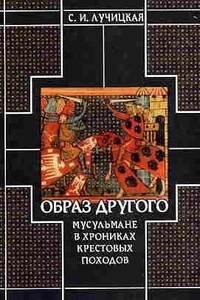
Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.
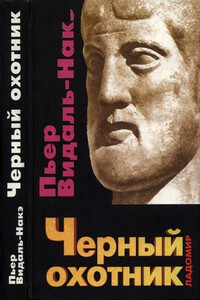
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.
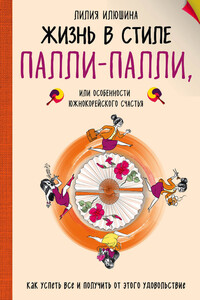
«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.