В соблазнах кровавой эпохи. Книга вторая - [5]
Укромное место, где нас выгрузили, представляло собой, как и в Москве, площадку у путей, которой, если мне не изменяет память, так же заканчивался какой-то обыкновенный «жилой» переулок. Впрочем, внешняя обстановка помнится мне смутно. Помню только то, что происходило. Здесь опять, как в Москве, — процедура эта везде была одинакова — один конвой стал сдавать нас другому по списку. Из подследственного арестанта, которого МГБ вынуждено было ломать персонально, я, как и все вокруг, прочно перешел в безликую (согласно специфике ГУЛАГа) категорию зэков. Нас куда-то повели колонной, велев всем в каждом ряду взять друг друга под руки, как это делают влюбленные. Это было не самовольным издевательством конвоиров, а буквальным исполнением инструкции ГУЛАГа. Я не могу вспомнить, куда при этом девались наши вещи — неужто погрузили на что-то? Или мы их все равно в руках держали — так сказать, из-под локтя соседа? «Своих» (из нашего купе) я в этой сутолоке быстро, хоть и временно, потерял. Точнее, они, как и я, растворились в каком-то странном для меня человеческом море. Я тогда не знал и не понимал, что столкнулся с живой историей народа.
Состояло это море из мужиков в странных для меня желто-серых или коричнево-серых, в общем, неопределенного цвета одеяниях. Чем-то они напоминали солдатские шинели, но были бесформенны и потому очень непохожи на них. Только потом я понял, что это были «сермяги» — именно те, от которых «сермяжная Русь». Под стать мужикам были в этой толпе и бабы — так же покорившиеся судьбе, но обязательно подпоясанные, более строгие. Их тоже было много. Много было и подростков, даже детей. Что их ждало? В сермяге был и человек, с которым мы шли рядом и, как было велено, под руки. Я не занимался этнографией — просто растерянно пытался выяснить, среди кого нахожусь. И спросил своего соседа, какой у него срок. Он ответил то ли «семь», то ли «десять» — теперь не помню. А на вопрос, по какой статье ему столько дали, он покорно и лаконично произнес:
— От седьмого-восьмого…
— ???
— Да от седьмого-восьмого… тридцать третьего.
Но я все равно ничего не понимал. И тогда он пояснил:
— Да за колоски… За колоски же.
То же отвечали и другие мужики, бабы и подростки, тоже уличенные в этом таинственном преступлении. Тут уже, по их мнению, мне все должно было стать ясным. Дело простое и всем известное — «колоски». И то, что приговоры за эти «колоски» были весьма весомыми — семь — десять лет, их тоже не удивляло. Так и ведется, так везде. Но я все равно ничего не понимал. Я знал, что «червонец» можно огрести за анекдот, но за «колоски»!
Только потом, в ссылке, кто-то из бывалых лагерников объяснил мне состав их преступления. Оказывается, эти люди были пойманы с поличным при попытке расхищения социалистической собственности и сурово наказаны согласно постановлению ВЦИК и СНК СССР от 7 августа 1933 года о борьбе с такими расхитителями. Вот по этому постановлению и получали эти «сермяги» свои семишники и десятки. Сравнивать их сроки с объявленными «нормами» не имеет смысла. «Ширпотребная» статья 58/10 часть 1 («антисоветская агитация в мирное время») не предусматривала сроков лишения свободы больших, чем три года, а давали по ней чаще всего десять, редко пять, и я не помню, чтоб меньше. И все это знали. И это было в порядке вещей. Так могло быть и с этим постановлением. А может, и не было. Но важно для меня сейчас не это, а то, что социалистической собственностью, которую расхищали эти «сермяги», как раз и были эти самые «колоски».
Дело было самое простое. После уборки урожая на колхозном (бывшем еще недавно их собственным, крестьянским) поле при социалистическом землепользовании всегда оставались неподобранные колоски ржи. Ни колхоз, ни государство подбирать эти колоски — часто из грязи, а то и промороженные — не собирались. Но они ревниво охраняли свое социалистическое право собственности на них. И этого никак не могли взять в толк те, кто это поле засевал и убирал. Они почему-то считали эти колоски бросовыми и собирали их. С тем чтобы, принеся эту «добычу» домой, выбить из колосков зерна, смолоть и употребить их в пищу. О рационе, толкавшем людей (природных хлеборобов) на подобные трудовые подвиги в уже начинающем замерзать поле (речь о более чем средней полосе), предоставляю судить самому читателю. Тут их и настигал праведный гнев потревоженного в своих непонятных правах государства. Это зверское постановление было придумано летом 1933-го. Возможно, тогда оно имело какой-то, тоже нечеловеческий, тоже, с нормальной человеческой точки зрения, непростительный, но ясный хотя бы самому этому преступному государству патологический смысл. Допустим, оно «сочло целесообразным» соответствовать этим «утверждению молодого и еще не окрепшего колхозного строя» — чтоб никто ни на что, кроме как на полученное по трудодням, не надеялся (партия ведь и тогда «воспитывала» оказавшийся в ее когтях народ). Но сейчас на дворе было 4 сентября 1948 года. Уже давно не было ни СНК, ни ВЦИКа, колхозный строй так или иначе утвердился. Между тем все эти люди были недавнего набора. Как видите, это давнее постановление в своей хватательной сути действовало, как только что принятое. Оно с прежней прытью продолжало гнать по этапу в лагеря сермяжную Русь. И делал это Сталин, чуть ли не традиционный в глазах нынешних «национально мыслящих» российский император и патриот
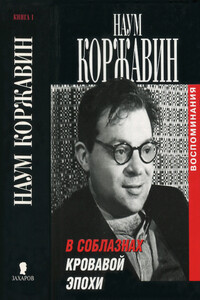
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная… В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства… [Коржавин Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
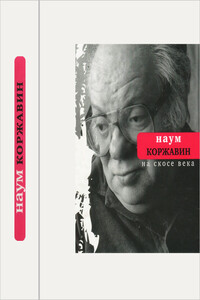
«Поэт отчаянного вызова, противостояния, поэт борьбы, поэт независимости, которую он возвысил до уровня высшей верности» (Станислав Рассадин). В этом томе собраны строки, которые вполне можно назвать итогом шестидесяти с лишним лет творчества выдающегося русского поэта XX века Наума Коржавина. «Мне каждое слово будет уликой минимум на десять лет» — строка оказалась пророческой: донос, лубянская тюрьма, потом сибирская и карагандинская ссылка… После реабилитации в 1956-м Коржавин смог окончить Литинститут, начал печататься.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.
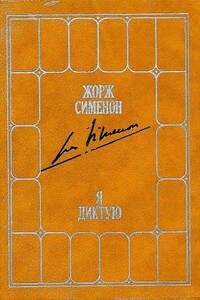
В сборник вошли избранные страницы устных мемуаров Жоржа Сименона (р. 1903 г.). Печатается по изданию Пресс де ла Сите, 1975–1981. Книга познакомит читателя с почти неизвестными у нас сторонами мастерства Сименона, блестящего рассказчика и яркого публициста.
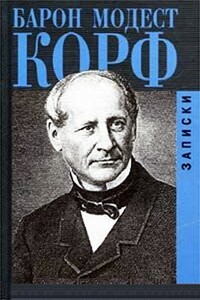
Барон Модест Андреевич Корф (1800–1876) — учился вместе с Пушкиным в лицее, работал под началом Сперанского и на протяжении всей жизни занимал высокие посты в управлении государством. Написал воспоминания, в которых подробно описал свое время, людей, с которыми сводила его судьба, императора Николая I, его окружение и многое другое. Эти воспоминания сейчас впервые выходят отдельной книгой.Все тексты М. А. Корфа печатаются без сокращений по единственной публикации в журналах «Русская Старина» за 1899–1904 гг., предоставленных издателю А. Л. Александровым.
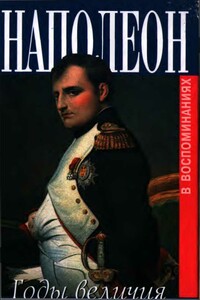
Первое издание на русском языке воспоминаний секретаря Наполеона Клода-Франсуа де Меневаля (Cloude-Francois de Meneval (1778–1850)) и камердинера Констана Вери (Constant Wairy (1778–1845)). Контаминацию текстов подготовил американский историк П. П. Джоунз, член Наполеоновского общества.
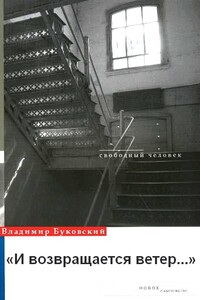
Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер…», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, — о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Ученый, писатель и общественный деятель Владимир Буковский провел в спецбольницах, тюрьмах и лагерях больше десяти лет.