В соблазнах кровавой эпохи. Книга вторая - [2]
— Ведь он же намного облегчил положение арестантов: их стали перевозить в классных вагонах, по четыре человека в купе. Он же не знал, что туда будут вталкивать по двадцать.
Конечно, не знал. Многого не знал П.А.Столыпин из того, что в целом ему не дали предотвратить. Знал только в общем, что грядет нечто, что предотвратить необходимо. И не был понят. Во всяком случае, вагонов для советской пенитенциарной системы он не готовил. Впрочем, она любые бы приспособила.
Но речь сейчас не о П.А.Столыпине. Нам было не до него, когда нами начали загружать «его» вагон. В том состоянии, в каком я был, о том, чтобы взобраться (не с перрона, а с земли) на его ступени, казалось бы, и думать нельзя было. Но мне «подмогнули». Пинком сапога в зад: «быстрей-быстрей!» — я чуть ноги себе не сломал, но взобрался. Конвоиры, видимо, опираясь на опыт, были уверены, что любой, если его заставить, выдюжит. В данном случае они были просто проникнуты психологией того государства, в котором жили. Не так же ли Сталин погнал тогда всю усталую, обессиленную и, как теперь ясно, обескровленную войной страну на новые жертвы во имя приходящих в его больную голову «великих» задач? И ведь и впрямь она до поры до времени выдюживала.
Таким был порядок вещей. Конвоиры вели себя так, словно каждый раз вдавливали в донельзя переполненное помещение еще одного уже никак не помещавшегося человека. А вагон был еще пуст. Впрочем, теперь я понимаю, что у конвоя были резоны спешить. Нас, «политикантов», пока еще почему-то надо было отделять от иной публики, но не нас берегли от уголовников, а всех остальных от нас. Они не должны были нас видеть, чтоб не заразиться. Поэтому нас и привели первыми и разместили в самом крайнем от входа купе. Хотя при этом всех везли в одни и те же лагеря, где они неизбежно должны были встретиться. Но такова была природа сталинского театра — играли неизвестно перед кем идиотский спектакль. Особенно истово в Москве. Ради этого спектакля нас и мучили.
Купе наше быстро наполнилось. Точнее, переполнилось. Тоже «политиками», но не «нашими», с «Большой Лубянки», а насельниками других московских «внутренних» тюрем: «Малой (областного управления) Лубянки» и политического корпуса «Бутырок», а также иногородними, доставленными сюда из центральной пересыльной тюрьмы «Красная Пресня», куда их привезли из городов, где они жили и были арестованы. Помню одного, явно интеллигентного латыша. Приговор — не то восемь, не то десять лет. Кто-то «понимающий», кажется Саша, догадался:
— A-а, за пана Бандеру!..
Догадка была нелепой. Бандеровцы действовали на Западной Украине, где служил Сашин брат, а те, кто действовал в Прибалтике, назывались «лесные братья». Но для Саши, видимо, разницы не было — раз партизанят против нас, значит бандеровцы. Но латыш его понял, не стал уточнять термины, только сказал:
— Нет, что вы… За пана Бандеру меньше пятнадцати не дают.
Потом появился ксендз из Гродно. Впрочем, что этот человек ксендз, я понял только годы спустя, хотя он вовсе этого не скрывал, а прямо ответил на вопрос о профессии:
— Я божничий.
Но я плохо его понял. Хотя вообще он говорил по-русски вполне грамотно — кончил когда-то русскую гимназию, чем заметно гордился. И не только из-за русского языка. Я почувствовал, что это в довоенной Польше было престижно.
Меня сбило с толку это слово — «божничий». Из-за него я очень долго считал, что он был каким-то мелким служкой при костеле. Это несколько контрастировало с его возрастом, образованием и общим впечатлением от его личности, но я не задумывался. Теперь я понимаю, что «божничий» — обобщающий термин, аналогичный нашему «человек духовного звания». Уверен, что я сильно ошибся и в определении его сана — как минимум был наш спутник настоятелем своего костела, но, может, и вообще епископом. Высокий, худой и бледный (после тюрьмы? Но мы все были после тюрьмы, а он отличался бледностью), он был невероятно юрок, очень разговорчив и как-то суетливо любопытен. Такими изображал поляков Достоевский, но я больше нигде не встречал таких (говорю только о внешних проявлениях, а не о сути, ибо мало о нем знаю). Советскую впасть божничий, мягко выражаясь, не любил, чего не скрывал. Но «божничество» его ни в чем не проявлялось — религиозно просветить нас он не пробовал. Ни исподволь, ни прямо.
Хотя разговоры бывали на всякие темы. Однажды, выслушав мой сталинистский бред, он шепнул Рузеру, с которым я, собственно, и спорил, что, дескать, ясно, почему он так говорит — еврей. Из-за чего ему пришлось вежливо выслушать вполне интеллигентную отповедь, что недостойные люди встречаются среди всех народов.
С «высоты» своего тогдашнего исторического мышления я ни на одного из них не обиделся. Только жалел их за узость горизонтов и заскорузлость представлений. Не обижаюсь — правда, по другим причинам — и сегодня. Нести то, что я нес среди того моря страданий, в котором находился, было не только глупо, но и бесчеловечно. Так что раздражение я вызывать, безусловно, должен был. Правда, эти мои умствования — мой личный грех, и распространять представление о нем на всех остальных евреев мира — тоже дело не святое. Но полностью комизм ситуации был мне тогда недоступен. Безусловно, для «божничего» тождество понятий «большевик» и «еврей» существовало непреложно. Оно подкреплялось тем, что некоторая часть еврейской интеллигентной и полуинтеллигентной молодежи (но отнюдь не вся молодежь и тем более не все евреи) в «освобожденных» в 1939–1940 годах местностях поддержала «новую власть» и даже сотрудничала с ней. Вспомним обескураженных западноукраинских милиционеров, встреченных мной в поезде во время эвакуации. Однако и они в своем поведении, и он в отношении ко мне руководствовались одним и тем же анахронизмом. Он тоже (он ли один?) не понимал, насколько изменилось время, и ему трудно было представить, что человек, с которым он почти одинаково, по-человечески воспринимает мою белиберду, как раз и есть тот самый «еврей-большевик», какого он видел во мне, а я в значительной мере поддерживал сталинскую измену большевизму. Впрочем, понимать эти «тонкости» ему — да еще в тех условиях — было совершенно необязательно. Жаль, что его естественное возмущение моим умствованием выразилось именно так, но не мне, тогдашнему, его за это судить…
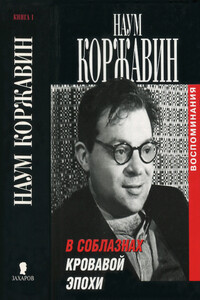
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная… В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства… [Коржавин Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
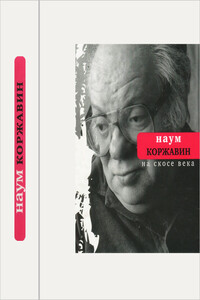
«Поэт отчаянного вызова, противостояния, поэт борьбы, поэт независимости, которую он возвысил до уровня высшей верности» (Станислав Рассадин). В этом томе собраны строки, которые вполне можно назвать итогом шестидесяти с лишним лет творчества выдающегося русского поэта XX века Наума Коржавина. «Мне каждое слово будет уликой минимум на десять лет» — строка оказалась пророческой: донос, лубянская тюрьма, потом сибирская и карагандинская ссылка… После реабилитации в 1956-м Коржавин смог окончить Литинститут, начал печататься.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.
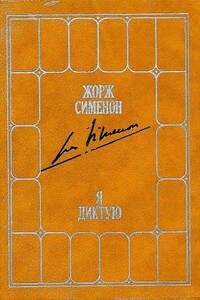
В сборник вошли избранные страницы устных мемуаров Жоржа Сименона (р. 1903 г.). Печатается по изданию Пресс де ла Сите, 1975–1981. Книга познакомит читателя с почти неизвестными у нас сторонами мастерства Сименона, блестящего рассказчика и яркого публициста.
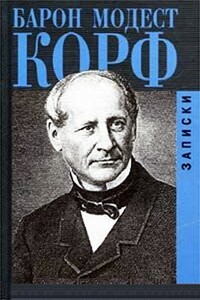
Барон Модест Андреевич Корф (1800–1876) — учился вместе с Пушкиным в лицее, работал под началом Сперанского и на протяжении всей жизни занимал высокие посты в управлении государством. Написал воспоминания, в которых подробно описал свое время, людей, с которыми сводила его судьба, императора Николая I, его окружение и многое другое. Эти воспоминания сейчас впервые выходят отдельной книгой.Все тексты М. А. Корфа печатаются без сокращений по единственной публикации в журналах «Русская Старина» за 1899–1904 гг., предоставленных издателю А. Л. Александровым.
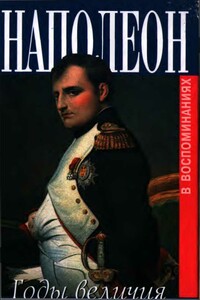
Первое издание на русском языке воспоминаний секретаря Наполеона Клода-Франсуа де Меневаля (Cloude-Francois de Meneval (1778–1850)) и камердинера Констана Вери (Constant Wairy (1778–1845)). Контаминацию текстов подготовил американский историк П. П. Джоунз, член Наполеоновского общества.
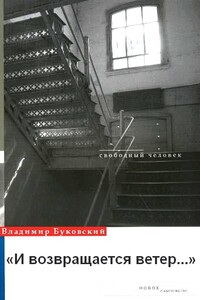
Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер…», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, — о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Ученый, писатель и общественный деятель Владимир Буковский провел в спецбольницах, тюрьмах и лагерях больше десяти лет.