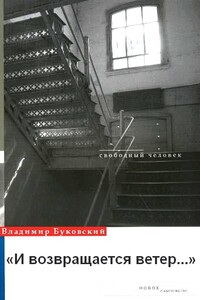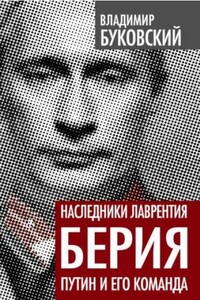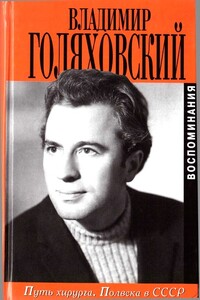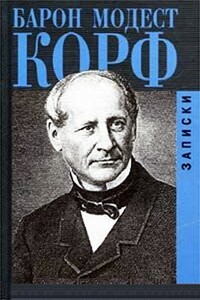Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.
Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!
Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл Гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
«Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннею гимнастику начинаем с ходьбы на месте».
Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.
Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди — как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:
Проснешься утром, город еще спит.
Не спит тюрьма — она давно проснулась.
А сердце бедное так заболит.
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.
По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмоход» — тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся — недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались — завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.
Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял — утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте — пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.
— Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? — Это уже наша разведка.
Если матрацы брать — значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать — значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать — значит, на первый или на третий: на втором свои дают и посуду тоже.
— Все забирайте с собой, — говорит неопределенно начальник, туману напускает.
Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы — ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.
И заметались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть — может, не найдут. В сапог тоже можно — да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги — пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.
— Начальник! Звони насчет сапогов — в ремонте у меня сапоги. Без сапог не пойду, начальник!
Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли — и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели — к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?
Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь — ценность. Вот три иностранных лезвия — за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере — три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие — тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же — книги, не дай Бог шмон! Все его богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру — не везло.
Но, в общем-то, похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие — на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них, как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести — и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.