«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - [11]
2) Очень благодарю Вас и Моршена за участие в «пенсии»; ввиду устройства в дом «пенсия» прекращает свое существование, поэтому больше ничего не посылайте М-mе Рубисовой.
К литературным делам возвращаюсь как будто из другого мира, так «это было давно». О Хлебникове, как это ясно из текста статьи — только самого раннего периода, то, что рассказывал Г. Иванов. Я знаю, что потом Мандельштам очень высоко ценил Х<лебникова>. Думаю также, что будучи вообще податливым к чужим влияниям (кое-что — о поправке — во «Встречах»), М<андельштам> мог после «Tristia» быть даже под прямым влиянием. Есть же среди позднейших его стихов такие, в которых явно влияние Пастернака, но с другой стороны, с самого начала у М<андельштама> была и своя «фут<уристическая> линия», свой герметизм.
Я совсем не обиделся за «Париж» — то, что я имею свое отношение к идеологии «Парижа» — основано на «истории» «парижской ноты», которую не все знают. М. б., когда я возвращаюсь к «истории», получается так (со стороны), как будто я за «Париж» обижен — но сам я никогда не имел такого намерения — «обижаться». И, повторяю, Париж никак не настаивает на том, что достиг «конечного» (иначе — смерть бы ему была), да и вообще «настаивать», «утверждать» и т. п. не в духе этой эпохи — 1926–1939. Ваше замечание о том, что Поплавский не русский «футурист» — верно (G. Apollinaire, Рембо и т. п.), жаль, что Ваше письмо я получил после того, как написал о Вашей статье о футуризме[84]. И еще: «новое», т. е. «послевоенное», поколение «парижан» тоже не может понять наших восторгов в отношении Поплавского. Интересно — в чем дело? Вероятно, в каждом поколении существуют свои пристрастия, основанные, б. м., на бессознательной какой-либо общности, что ли, созвучности какой-то «ноте», которая звучит только для них, а потом уже не звучит? А м. б., наоборот, «новые люди» не сумели прочесть Поплавского? И это может быть. Книг Хл<ебникова> я так еще и не получил, впрочем, и не искал, не до них было. А в статье о футуризме, мне кажется, критик и ученый заглушили в Вас поэта, заставили на время поверить в реальность «измов», в значение рационального момента в творчестве: «хотел», «следовал такой-то программе или течению» — на самом же деле:
(из «Тяж<елой> лиры» В. Х<одасевича>, по памяти[85]).
Теперь об ином. Здесь проектируют съезд писателей зарубежья — в конце лета. М. б., судьба позволит нам встретиться. Возможно, что со временем напишу Вам более подробно об этом и даже о том, какой бы доклад Вы хотели сделать? Но сейчас еще рано, т. к. не знаю, во что все эти разговоры выльются.
Крепко жму руку.
Ю. Терапиано
14
5. III. 55
Дорогой Владимир Федорович,
Сейчас получил уже на новый адрес Ваше письмо от 28/11, через которое почувствовал Вас — внутренне, на глубине <нрзб> теплее и лучше самому.
На Ваше письмо от 13/II не смог ответить, т. к. только что похоронил Ставрова, затем был переезд, хлопоты, сосредоточиться совсем не мог. Как раз ко дню окончательного переезда заболел гриппом, переезжал больным и только теперь прихожу в себя. Вчера узнал новую печальную весть — умер в Тель-Авиве поэт Довид Кнут[86]. В 20-х гг. (25–26) мы с ним <медитировали?>, были очень дружны долгие годы и только после его неудачной (с моей точки зрения) женитьбы на дочери А. Скрябина, сумасшедшей Ариадне[87], наша дружба как-то расстроилась. Кнут был очень талантливый поэт, и человек тоже талантливый, с детской милой душою, веселый и всегда полный энергии. Вспоминаю прошлое, его стихи и т. д. — и еще мне грустнее. Во время войны я потерял близких людей, теперь опять, как— то даже страшно думать, что почти все мои прежние друзья уже не принадлежат этому миру. Вот книга об А. Белом покойного критика Мочульского[88] — и его тоже нет. И даже как-то досадно, что многие «худшие» из литературной среды, пройдя безвредно «огонь, и воду, и медные трубы», благополучно процветают. Такие сопоставления делать грешно, но все-таки иногда такое вырвется. Ставров последние годы постепенно сходил на нет, не хотел писать, поэтому вялость его ответов не удивительна. Но разве могли Вы знать, в чем дело, когда и близкие его не знали.
Проект съезда[89] поддержан кругами, которые, вероятно, помогут его осуществить, вопрос не столько в средствах, сколько в организации, это — ахиллесова пята россиян. Вы — в списке предполагаемых присутствующих и говорящих. Через 2 недели будут здесь организационные разговоры, поставлю Вас в курс о них.
«Парижскую поэму» Набокова не читал, где она напечатана?[90] «Бульмиш» — студенческое сокращение Boulevard St Michel — главная артерия Латинского квартала, на которой в любое время дня и ночи полно студентов. Откуда же строчки «Ils furent…»[91] — не припоминаю.
На Ваше письмо по поводу моей статьи о «Футуризме» подробно отвечать сейчас не буду, т. к. спор «письменный», а не «разговорный» труден тем, что отсутствуют интонации, реплики подаются через несколько недель и т. д., т. е. по существу подобный разговор внутренне нелоялен, все время как бы бить связанного, и, связанный, получаешь удары. Самое существенное в недоразумении или в понимании каждым по-своему тезисов «Футуризма», мне кажется, — их формулировка — она неясна, и, естественно, возражавшие поняли не так, как, видимо, понимаете Вы сами. «Знак равенства между хорошей поэзией и футуризмом» (даже независимо от измененного названия статьи), отношение к течениям как к чему-то реально влияющему, создающему и т. д. — чего Вы сами не находите в Вашей статье («поступательного движения в поэзии — этой идеи нет в моей статье») — все это все-таки читатель вправе вывести. Я дал прочесть Маковскому Вашу статью, чтобы проверить свои реакции, и его возражения (его восприятие) совпали с моими. Вы писали об идеях, а не об «измах» — но здесь-то и получился корень недоразумения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На протяжении десятилетия ведя оживленную переписку, два поэта обсуждают литературные новости, обмениваются мнениями о творчестве коллег, подробно разбирают свои и чужие стихи, даже затевают небольшую войну против засилья «парижан» в эмигрантском литературном мире. Журнал «Опыты», «Новый журнал», «Грани», издательство «Рифма», многочисленные русские газеты… Подробный комментарий дополняет картину интенсивной литературной жизни русской диаспоры в послевоенные годы.Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг.

В книге «Встречи» Юрий Терапиано передает нам духовную и творческую атмосферу литературной жизни в эмиграции в период с 1925 по 1939 г., историю возникновения нового литературного течения — «парижской ноты», с ее обостренно-ответственным отношением к делу поэта и писателя, и дает ряд характеристик личности и творчества поэтов и писателей «старшего поколения» — К. Бальмонта, Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Ходасевича, К. Мочульского, Е. Кузьминой-Караваевой (Матери Марии) и ряда поэтов и писателей т. н. «младшего поколения» (Бориса Поплавского, Ирины Кнорринг, Анатолия Штейгера, Юрия Мандельштама и др.).Отдельные главы посвящены описанию парижских литературных собраний той эпохи, в книге приведены также два стенографических отчета собраний «Зеленой Лампы» в 1927 году.Вторая часть книги посвящена духовному опыту некоторых русских и иностранных поэтов.Текст книги воспроизведен по изданию: Ю.

Оба участника публикуемой переписки — люди небезызвестные. Журналист, мемуарист и общественный деятель Марк Вениаминович Вишняк (1883–1976) наибольшую известность приобрел как один из соредакторов знаменитых «Современных записок» (Париж, 1920–1940). Критик, литературовед и поэт Владимир Федорович Марков (1920–2013) был моложе на 37 лет и принадлежал к другому поколению во всех смыслах этого слова и даже к другой волне эмиграции.При всей небезызвестности трудно было бы найти более разных людей. К моменту начала переписки Марков вдвое моложе Вишняка, первому — 34 года, а второму — за 70.

Переписка с Одоевцевой возникла у В.Ф. Маркова как своеобразное приложение к переписке с Г.В. Ивановым, которую он завязал в октябре 1955 г. С февраля 1956 г. Маркову начинает писать и Одоевцева, причем переписка с разной степенью интенсивности ведется на протяжении двадцати лет, особенно активно в 1956–1961 гг.В письмах обсуждается вся послевоенная литературная жизнь, причем зачастую из первых рук. Конечно, наибольший интерес представляют особенности последних лет жизни Г.В. Иванова. В этом отношении данная публикация — одна из самых крупных и подробных.Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг.
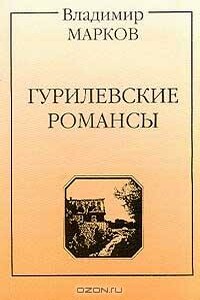
Георгий Иванов назвал поэму «Гурилевские романсы» «реальной и блестящей удачей» ее автора. Автор, Владимир Федорович Марков (р. 1920), выпускник Ленинградского университета, в 1941 г. ушел добровольцем на фронт, был ранен, оказался в плену. До 1949 г. жил в Германии, затем в США. В 1957-1990 гг. состоял профессором русской литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в котором он живет до сих пор.Марков счастливо сочетает в себе одновременно дар поэта и дар исследователя поэзии. Наибольшую известность получили его работы по истории русского футуризма.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».