В наших переулках - [4]
Эта упрощенная волковская эстетика с ее зеленой травой, четкими и скупыми линиями околичных ворот и темными зубцами леса вокруг, с пустотой просторной избы, с белым полом, на который на ночь стлали белый же войлок в качестве постели для гостей, с голыми, не завешенными и не заставленными ничем окнами, через которые доступно видится та же зеленая трава, тот же черный лес, та же околица сейчас, вероятно, мне показалась бы привлекательней, чем почти мещанский уют бабушкиной горницы. Но в раннем детстве я ощущала волковский строгий аскетизм как нечто, стоящее на ступень ниже ландехской жизни, хотя я знала, что у Макара и лошади, и крупорушка собственного изобретения, и свой тарантас, а у бабушки только Красавка да мои любимые Хлопчики, два пушистых братца-котенка, весело лазающих по кленам в палисаднике. И, конечно, в каком-то отношении так оно и было: у бабушки оставался тот излишек свободы, который создает культуру, а у Одуваловых свободы не было. Макар тянул из себя, из жены и детей жилы, чтобы встать прочно на ноги, создать крепкое хозяйство, выбиться в люди. В волковском доме знали только работу и послушание его жесткой воле (или бунт как альтернативу). А бабушка Марья Федоровна, хоть и прожила всю жизнь одна в большом доме, но жила «для души» и «по совести». Она молилась усердно в церкви, читала свои три книги, дружила с акушеркой Ольгой Дмитриевной, водилась с монахинями, считалась уважаемым в Ландехе человеком, к которому охотно ходили за советом. У бабушки не было земли и хозяйства по деревенским тогдашним понятиям, но огород, корова и небольшие, но регулярные пособия и подарки сначала от далекого мужа, а потом от такого же далекого сына помогали ей вести достойное существование. И уровень этого существования отражался в характере и убранстве ее дома.
Отец мой — выходец из ландехского дома — именно из того дома, что построила и устроила по своим возможностям, вкусу и разумению, но и в полном согласии с традицией, его мать в самом-самом конце благословенного XIX века, когда вся Россия и в том числе этот новый крестьянский дом устремились в надежде и порыве к чему-то лучшему и высшему: уж кто как его понимал. Моему отцу чужда была и серая косность запустелого ушевского дома, и суровая жестокая хозяйственная устремленность истинно-крестьянского волковского дома. Ему под стать была эта им украшенная и рано оставленная материнская обитель: с ее любовью к традициям и с ее доброй готовностью воспринять в себя терпимо то хорошее новое, что выпадет на долю: будь то стихи Пушкина, узорчатый киргизский ковер и, наконец, городская невестка, дворянка, интеллигентка, актриса. Отец мой до конца дней своих любил и почитал родной Ландех памятью сердца, но никогда не идеализировал крестьянской жизни, не считал ее верховным типом человеческого существования и блага цивилизации признавал за блага, неся как знак лично обретенного достоинства все отличия городского культурного человека. Его терпимость и мягкость, нравственная стойкость и широта всегда казались мне неотъемлемыми от уклада его родного дома, его села, старой владимирской культуры.
Когда недавно прочитала у Достоевского о споре его с А. Градовским по поводу грубости и непросвещенности русского народа и неистинности его христианства, вспомнила тут же деревенских бабушек своих: грамотную ландехскую Марью Федоровну и неграмотную волковскую Анну Федоровну и еще тетку двоюродную Александру Макаровну, что и сейчас храбро пишет мне письма без прописных букв и знаков препинания, без какой-либо грамматики, но и с сердечным чувством, и с чувством достоинства и со здравым смыслом. Это ведь про отцовскую родину, про леса и болота, что и сейчас не пускают меня в Ландех, писал Федор Михайлович, что народ, здесь проживающий, «все знает, самую суть учения принял в себя… то, что нужно знать…» и научился он этому «веками своих страданий еще в лесах, спасаясь от врагов своих в Батыево нашествие». Мало этого знания осталось на Руси. Но было. Еще недавно было. О том свидетельствую.
В родном доме отец прожил до одиннадцати с половиной лет. К этому времени он окончил четыре класса сельской школы, чтобы навсегда научиться безупречно грамотно и красиво писать, а также бегло считать. Учили просто: провинился — в угол, коленями на горох. Бить, кажется, не били, но линейкой по рукам доставалось.
Я хорошо помню учителя отца Ивана Борисовича Колобова, высокого сурового старика с длинной седой бородой. Он выучил многие поколения ландехских ребятишек, точно так же красиво, как мой отец, писать — тем же самым почерком: я когда-то видела письма к отцу односельчан, сходство было удивительным. Помню, как шел Иван Борисович босой, в белой длинной подпоясанной рубахе по сельской улице, и трепет пробегал по ней, передаваясь даже самым маленьким. И почтенные отцы ландехских семей снимали перед ним шапки, а он сдержанно-сердито кивал головой. Его жена была также ландехской учительницей, так же как жена сына, дочь и внучка Таня, что и сейчас, говорят, преподает в Ландехе. Сын же Ивана Борисовича, Николай Иванович Колобов, был лесничим, как стал лесничим и внук его Женя, Евгений Николаевич. В Ландехе помещиков никогда не было, священник, учителя, лесничий и врач составляли там всю местную интеллигенцию. Говорили все Колобовы, как ландехские крестьяне, по-владимирски на «о», — не знаю, непринужденно это у них получалось или было плодом принципиальных стараний, всюду ли они так говорили или только в родном селе. Отец мой, например, на «о» уже и в молодости не говорил.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.
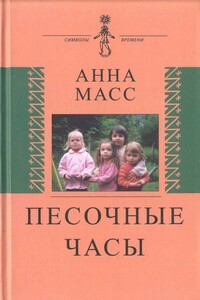
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.
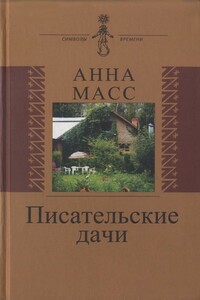
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.
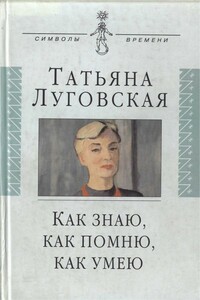
Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.