В наших переулках - [5]
Тогдашнее младшее поколение Колобовых — Женя и Таня — были примерно моими ровесниками, и я часто бывала у них в гостях, в последний раз осенью 1941 года. Большой одноэтажный деревянный дом Колобовых стоял как раз напротив собора в том же порядке домов, что и изба бабушки. Был он темен снаружи и мрачен внутри, вероятно, от громадности комнат со старыми неоштукатуренными бревенчатыми стенами. В одной из комнат стоял рояль и было много книг, но даже эти признаки интеллигентных интересов и привычек не меняли общего впечатления аскетической простоты быта и некоторой запущенности. С задней стороны к дому примыкал низкий открытый балкон с длинным столом и узкими лавками, несколько широких и длинных ступеней вели во фруктовый сад, где, кажется, были и ульи. И сам дом Колобовых, и простота его убранства, и балкон — все это походило на те дома обедневших помещиков, в которых жили мои деды и прадеды с материнской стороны. На выцветших фотографиях маминого детства я видела точно такие же бревенчатые стены, низкие балконы и широкие окна, такую же простоту одежды и утвари, что была характерна для быта всей демократической интеллигенции, быта и привычек, порожденных эпохой народничества, но сохранившихся еще долго, вероятно, вплоть до самой Отечественной войны. Только в отличие даже от самых бедных помещиков сад у ландехских учителей, конечно, был не больше бабушкиного огорода. Был у Колобовых, как и у всех ландехских крестьян, и свой «дальний покос», где они сами работали. Впрочем, кажется, у них работал в основном старший сын Ивана Борисовича от первого брака Серега-дурачок, взрослый сильный мужчина с умом шестилетнего ребенка — типичная фигура старой деревни, часто имевшей своего дурачка — предмет скудных развлечений и насмешливо-богобоязненной заботы.
Представить себе старшее поколение ландехских учителей молодыми, какими они были в детстве моего отца, не могу, почти ничего не зная о той поре. Уж очень был скуп на воспоминания мой скромный молчаливый отец. Редко-редко расскажет, как ходили они мальчишками в канун Рождества славить Христа по избам. Или как катались с горы на обледенелых решетах вместо санок. Или как послали их, восьмилетних, матери на богомолье на Свято-озеро в монастырь, дав с собой заварку чая, а они решили его «заварить» в самом озере, из которого прямо и пили в том самом месте, куда всыпали чай, запивая холодной прозрачной водой пироги с луком и кокуры. Впрочем, последний рассказ уж больно смахивает на один из тех простодушных анекдотов, которые передаются в деревне с охотой из поколения в поколение. Только больше-то вспомнить мне нечего.
А когда я пытаюсь дополнить скудость сведений о его детстве собственными ландехскими впечатлениями, то почему-то мне отчетливо и ярко вспоминаются дома, улицы, церкви, баня, сарай, двор, амбары, бабушкины пяльцы, сундук, коромысла, вальки, шали, чайные чашки — вплоть до мельчайшего голубенького цветочка на розовом фарфоре, вплоть до необычайной формы пуговички на кофте 1900 года, а вот природа ландехская совсем мало помнится. То ли уж очень неказист и обыкновенен ландшафт тех мест? Лес да болото, болото да лес… Но ведь как пронзили мое сердце эти бесконечные таинственные болота осенью сорок первого года… Скорее, думаю, очень уж я была в те, ландехские годы мала, да и, видно, редко брали меня тогда в лес и в поле. В деревне ведь не «гуляют» на природе, там работают, и маленькому ребенку делать в лесу и поле нечего. К тому же быт деревенский так разительно отличался от московского, что он навсегда врезался в глаза каждой своей черточкой — ледяное кольцо в глубине колодца с журавлем, резьба наличника, форма какой-нибудь банной шайки, легкость и искусность плотного плетения громадного лукошка, в котором носят траву скотине с огорода да еще в грибную осеннюю пору берут в лес за груздями.
Только из самой дальней дали памяти всплывает бледный, жидкий, рассеянный свет солнца, отраженного болотной водой, и желтые ирисы, торчащие из осоки, длинная-длинная «мостовина», как называют здесь гать, чахлые какие-то деревца по сторонам, рыжая лошадь, с трудом преодолевающая на дороге рытвину, наполненную водой, и сильные молодые папины руки, высоко и надежно поднимающие и несущие меня и над болотом, и над ирисами, и над телегой с вещами. Это мы едем в Ландех, не знаю, в каком году, не знаю уж, через Вязники или через Шую — все равно всегда путь наш лежал через леса и болота, через гати и топи, через рытвины и ухабы — недаром Батый туда не добрался.
И еще столь же давнее ощущение полевой воли, редкого в Ландехе не загороженного ничем простора и слившихся с этим ощущением восторга и вины от нарушенного запрета, — это когда мы с соседским Аркашкой однажды подлезли под прясла в огороде за баней и, взявшись за руки, отправились куда-то за амбары, без тропы, прямо по траве, в открытое поле, не имея ни цели, ни плана. Но были тут же пойманы и возвращены.
И еще ощущение особого уюта и тишины на паперти ландехского собора: мы вдвоем с мамой сидим на нагретых солнцем выщербленных ступенях бокового его входа у закрытых дверей, отгороженные от всего и всех мощными церковными стенами, с одной стороны, липами, сиренью и церковной оградой, с другой, и в этом небольшом замкнутом пространстве, дополнительно освещенном светом, отраженным белой стеной, — особый мир, тихий и яркий: цветут травы, жужжат пчелы, носятся над головой ласточки и важно смотрит с входной иконы на нас с мамой какой-то святой.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.
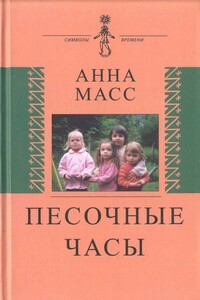
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.
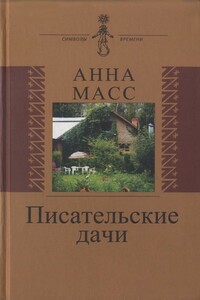
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.
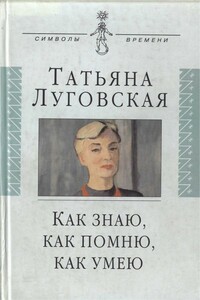
Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.