В дни войны: Семейная хроника - [134]
Наша дружба с ним началась в первые дни жизни в Доме Гегеля. Во время знакомства с профессорами и преподавателями — нашими будущими лекторами и менторами. Нас вызывали по алфавиту, и каждый профессор по очереди задавал нам вопросы — знакомился с нами. Дошла очередь до Володи — его вызвал профессор химии. Володя спокойно встал и только назвал свою фамилию, а на вопросы химика не отвечал, стоял и печально смотрел на химика, а химик, повторяя вопросы, начинал кипеть и сердиться — он думал, что Володя над ним издевается. Лицо Володи становилось все печальнее, а лицо химика — краснее, и он начал орать, как сержант на простого солдата. Мне так было жаль молодого человека, что я с места, не выдержав, сказала громко: «Г-н профессор, Штандель не понимает, что вы ему говорите даже громко, он не владеет немецким языком». «Setzen Siesich!» («Сядьте») — приказал профессор, махнув на Володю рукой, Володя сел, а я, перегнувшись к нему через стол, сказала: «Не обращайте на него внимания». И вдруг Володя улыбнулся, ласково и признательно — все лицо его осветилось и сделалось почти детским, трогательным и нежным. Елена Муравлева и Ирина тоже сделались вскоре его друзьями; и они поняли значительность Володи и любили, как и я, слушать игру Володи на фортепиано в актовом зале, расположенном напротив нашего жилого флигеля. Я всегда открывала окна моей комнаты, когда Володя играл, и звуки неслись из еще не разрушенного дома, и казалось, что войны больше нет. Чаще всего Володя играл Шопена, Шуберта. И сейчас, когда я слышу фортепьянные вещи Шуберта, я с горестью думаю о Володе: какая прекрасная жизнь, выброшенная — на ветер.
Володя вырезал из мрамора портрет — головку нашей берлинки, преподавательницы биологии; работал долго, медленно, она ему позировала у себя в доме, в своей неразбомбленной старинной квартире, и, наверное, поила Володю чаем и подкармливала его, и у нее появилась, как у Володи, печаль в глазах, когда она смотрела на него. Наверное, ее сердце было тронуто прелестью и талантом Володиной души… К Володе приходил старый потрепанный русский художник-берлинец. Они подолгу сидели над мраморной головкой и разговаривали. Старик (очень колючий, кстати, сердито смотревший на меня, когда Володя звал меня на эти собеседования) был великий знаток старины и сам хороший скульптор и художник, давал Володе много ценных советов: как выбирать мрамор, какие «жилки» искать, каких — избегать, потому что они со временем сделаются мягкими и малоустойчивыми и т. д. Он с нежностью в глазах, молча, подолгу разглядывал сквозь очки мраморную головку, держа ее в своей большой темной ладони. И для меня, тихого слушателя, открывался мир прекрасных творений и людей, служивших Богу и красоте.
Этот ссутулившийся, заскорузлый, заброшенный русский старик весь загорался, когда рассказывал о теплом, прогретом солнцем, почти прозрачном мраморе, не замечал вокруг себя ничего — ни себя, ни других, — и, наверное, не знал сыт ли он, голоден ли, есть ли война и кто с кем воюет — для него это были «тени», которые неизбежны при ярком солнце. И Володя — такой же, всегда смотревший вглубь, видевший все глазами художника, скользившими мимо всего, что не было совершенным, не замечавший каждодневной жизни, не знавший ее. Эти два «старика» рассматривали Володины акварели и говорили о великих мастерах старины…
Я не спросила фамилии старого берлинского художника и даже имени-отчества — не помню. Перед гибелью Берлина он перестал приходить к Володе и, странно, Володя совсем не беспокоился, не искал его. «Если он жив — он придет», — сказал он мне задумчиво на мои тревожные расспросы. Но старик — не пришел…
В конце нашего пребывания в Доме Гегеля Володя передал мне пакет. «Для тебя», — и больше ничего не добавил. Я всю ночь в слезах читала поэму жизни Володи, написанную просто, прекрасным стихом. Володя писал о своей жизни с момента ареста перед самой войной и до нашей встречи в Берлине — цепь страданий и горя, через которые он шел и о которых писал эпично, почти как зритель. Только в одном месте поэмы, в самом трагическом, как вздох: «…как тяжело было, Римочка, мне…» Я не сохранила поэму — в наши страшные годы после Берлина все погибло, все, что было дорого: письма, фотографии, дневники и Володина поэма. Запомнила только последние строчки его печальной повести… Володю забрали перед гибелью Берлина в армию для защиты города на подступах. И сказали, что его определяют в части SS. Это Володю-то, поэта, и в SS, без немецкого языка! Я приехала в Д. Г. — прощаться из Панкова (В. продолжал жить в Доме — деваться ему было некуда). Встреча была очень короткой — Ирина, тоже живущая еще в Д. Г., привела Володю и подталкивала его в спину: «Ну же, Володя, прощайся», а В. держал мои руки, печально, как всегда, молча смотрел на меня, как будто хотел запомнить мое лицо; так мы молча расстались… и я не успела и не сумела сказать Володе на прощание всего, что я мысленно приготовилась ему сказать.
После войны я пыталась несколько раз справляться о Володе у моих друзей-студентов, навестивших Дом Гегеля, и двух его начальниц, переживших гибель Берлина. Никто ничего не смог сказать о Володе — он исчез, и неизвестно, жив ли он. Какая драгоценная жизнь…
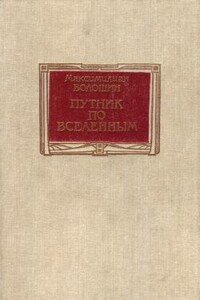
Книга известного советского поэта, переводчика, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина (1877 – 1932) включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания.Значительная часть материалов публикуется впервые.В комментарии откорректированы легенды и домыслы, окружающие и по сей день личность Волошина.Издание иллюстрировано редкими фотографиями.
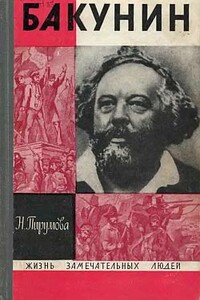
Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.