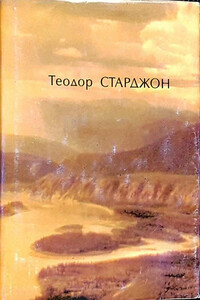Условности - [44]
Эмоциональность и фактура неизбежные составы произведения искусства. Вне их соединения ничего не получится: или немые «поэты в душе», или бездушные, никому не нужные ловкачи и мастера. Только при соединении этих двух элементов можно говорить о каком-нибудь искусстве.
Технические изыскания, открытия и новшества, не обусловливаемые эмоциональной необходимостью, никакого эмоционального действия оказать не могут и интересуют только профессионалов, суждения которых о произведениях искусства вообще не должны иметь никакого серьезного значения.
Равновесие этих элементов часто бывает нарушено; предпочесть перевес в ту или другую сторону — дело вкуса.
Фактура — вооружение, запас эмоциональных восприятий — воинственный пыл, патриотическое или партийное одушевление, поводы и цели войны. Вооруженный с ног до головы человек, который у себя дома мирно пьет чай, не участвует в военных действиях. Скорей уже похоже на войну, когда люди, воодушевленные воинским жаром, с голыми руками, бессмысленно и безнадежно защищают свои дома от вражеских пушек.
Академия после долгого перерыва выпустила ряд новых художников. Я не знаю, какое дается им теперь звание и дается ли. Прежде они назывались «свободными художниками». Какая ответственность, если вдуматься в эти слова. Художник, да еще свободный! Ни тем, ни другим школа сделать не могла, да и не должна была. Нельзя дать массе людей то, что для каждого должно быть неповторимым. Так же, как операцию освобождения невозможно произвести механическим способом.
Академия дает вооружение, больше ничего. Но одно вооружение действие производить не может, следовательно, об искусстве не может быть и речи. И если есть там полотна, о которых необходимо говорить, то это потому, что в них выражены эмоции, не подлежащие академическому контролю или цензу. Большинство кончивших и представляют из себя вооруженных (в большей или меньшей степени) людей, о которых совершенно не известно, завалятся ли они спать, будут ли играть в бабки, или пойдут на приступ. Последнее предполагается почему-то меньше всего. Может быть, конечно, чья-нибудь благодетельная воля нальет вина в эти пустые бутылки, но сомневаюсь, чтобы «художник» проснулся в теперь уже бездушном мастере Павлове или рабском подражателе приемов учителя Акишине. С точки зрения формальной, у последнего кое-что сделано, может быть, еще более «здорово», чем у самого Петрова-Водкина, но это — пустяки, обезьянство, выветренное повторение того, что само полно напряженного эмоционального содержания.
Единственная картина, могущая заинтересовать и профессионалов, и людей, ищущих от искусства эмоционального действия, это — картина В. Дмитриева. Она была бы примечательна не только среди выставки фактурных достижений, потому что это — действительный художник, если еще и не совсем свободный, то в значительной мере освободившийся. Конечно, происхождение от Петрова-Водкина еще чувствуется даже в самом круге эмоциональных восприятий, но при сродстве легче еще заметна и разница. У Дмитриева все смягчено лиризмом, аскетизм Петрова-Водкина переходит в целомудрие, резкость — в сдержанность, новгородское письмо в московское.
Широкий лиро-эпический полет снежного пейзажа, золотой чистой зари, видимая сферичность города, напоминающая о земном шаре, «пупе земли» (Царьград, Москва, Сион?) — гипнотизирует уже своей, единственной, прелестью. И это искусство глубоко русское и свое, не похожее ни на Сурикова, ни на Нестерова, ни на Петрова-Водкина. Иконописная женская фигура на первом плане, может быть, менее индивидуальна.
В большом расстоянии от Дмитриева, но заставляющие предчувствовать художника и позволяющие говорить об искусстве — находятся работы Ющенко, напоминающие принципы экспрессионизма, и Эссен, с занятной выдумкой и эмоциональными красками. Во всяком случае, они уже пробуют как-то действовать оружием, которым снабдила их Академия.
К.А. Сомов
Имя К. А. Сомова известно всякому образованному человеку не только в России, но и во всем мире. Это величина мировая. И известность его далека от известности мастера, окончательно высказавшегося, законченного (многие любят заменять это слово «конченным»), но как творца, не останавливающегося на совершенных достижениях, но меняющегося, ищущего, расширяющего с каждым шагом свой кругозор и свободу, после, казалось бы, непревзойденной прелести красок, снова занятого новыми соединениями тонов, новым чародейством.
Новизна последних произведений Сомова должна быть особенно подчеркнута, так как у нас в России легко успокаиваются на простой регистрации художественной ценности и затем уже с легким сердцем делаются ленивыми, нелюбопытными и неблагодарными.
Как это ни удивительно, но и среди молодого поколения, и среди людей, считающих себя на страже устоев искусства, нередко можно встретить мнение, что К. А. Сомов при всей своей талантливости лишь показательная фигура известной эпохи, эпохи первых годов «Мира Искусства», доведший до совершенства временное течение в живописи, временную технику, — и потом застывший в олимпийском покое. Как будто публика сделалась более зряча, чем первые посетители выставок «Мира Искусства», когда одинаково, не разбирая, шарахались от Сомова, Бенуа, Бакста и Головина, как впоследствии не различали Судейкина от Сапунова и Павла Кузнецова, как в литературе принимали или не принимали группами Блока, Брюсова, Бальмонта, Сологуба и др. Пожалуй, еще и теперь не слишком отличают Дебюсси от. Равеля. «Мир искусства», «модернисты», «декаденты», «футуристы» — общедоступная регистрация, полочка и — с плеч долой. Конечно, относительно К. А. Сомова это времена давно прошедшие, и теперь, пожалуй, никто его не спутает ни с А. Бенуа, ни с Головиным, но еще не приобретена та проницательность, чтобы увидать большой внутренний путь, большую работу у этого совершенного мастера, его русские истоки через Федотова, какой это беспокойный, недовольный собою творец и что значение его всемирно и вечно, как всякого гения, а не замкнуто во временные рамки наших эпох и художественных школ.

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.
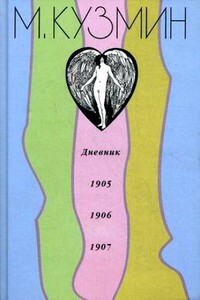
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».
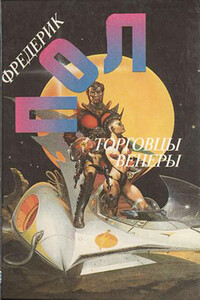
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.