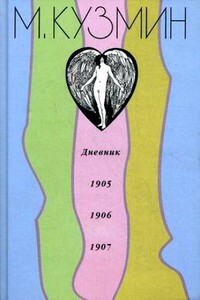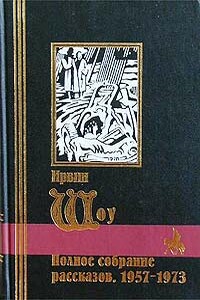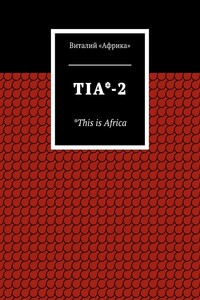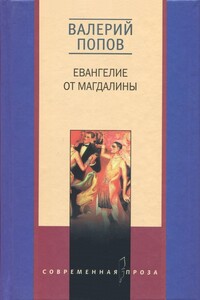Английский путешественник Фома Корбэт, чтобы издать свое занятное путешествие, должен был выпросить у целого ряда знаменитых и не знаменитых поэтов стихотворных похвал этой книге.
Тут были произведения Бен-Джонсона, Дрейтона, Джона Донна и Джорджа Чепмана, были оды, сонеты, эпиграммы, акростихи, по-английски, по-гречески, по латыни, на языке макароническом и даже «утопическом», соответствовавшем нашему заумному. Только с такими поэтическими окружениями странствия его нашли издателя, потому что английская публика 1611 года самый ничтожный сборник стихов, хотя бы по-гречески, хотя бы на никому не понятном утопическом языке, предпочитала даже очень занятной английской прозе.
Литературные пристрастия повторяются капризно, едва ли доступны какой-нибудь регуляции, и русская публика последних лет вдруг (вероятно, для самой себя неожиданно) уподобилась елизаветинским англичанам.
Стихомания расцвела пышно, несмотря на неурядицы, на недостатки бумаги, на типографские цены, несмотря ни на что, книги, книжечки, книжонки, брошюры, листовки, написанные стихами, выходили. Не выходили временно печатные – выходили рукописные, устраивались словесные «альманахи и сборники».
Поэтические студии начали считаться необходимою принадлежностью самых неожиданных учреждений. Я не уверен, что таковых не существовало при пожарных командах и домах для умалишенных. В Москве, этом испытанном очаге всяческих словопрений и идеологий, каждый день провозглашались новые поэтические школы. Провинция не отставала. В Петербурге школ новых не обнаруживалось, но новых поэтов выступило не меньше, чем везде. Подобное увлечение стихотворством почти сравнялось с театральной эпидемией, при которой одно время в Петербурге число играющих граждан превосходило количество неиграющих. Напрасно Б. Эйхенбаум три или четыре года тому назад предсказывал близкое преобладание прозы, пророчество это покуда не исполнилось. Парнас зарос и продолжает зарастать. «Побеги трав»? Конечно, есть и побеги трав, но есть и такие растения, которым еще долго следовало бы сидеть под землею, встречаются также экземпляры молодые, но уже из гербария студий, которые едва ли можно вернуть к жизненной свежести. Всю эту обильную флору вызвало на свет Божий солнце спроса. Покуда будет спрос, будет и предложение; когда же спрос прекратится, поэзия, конечно, не пострадает, но производство стихов уменьшится. Причем в данном случае более чем где бы то ни было уместна аналогия с изречением, что «всякий народ имеет ту форму правления, которой заслуживает». Современный поэтический спрос удовлетворяется именно таким образом, как он этого заслуживает. И если увлечение публики направлено исключительно на стихотворную форму, только эту форму ему и предлагают. Форма же дело наживное, студий у нас много. Выучиться писать стихи может всякий, у кого достаточно свободного времени, упрямства и честолюбия. Три качества, свойственные скорее женщинам, – а, действительно, поэтесс у нас не меньше, если не больше, чем поэтов.
Не легко разобраться в этих зарослях, отчасти диких, отчасти насаженных вроде питомника, тем более что из-за всяких лопухов порой не разглядишь иного молодого растеньица, которое, взятое отдельно, имело бы полное право на внимание, слабое, но новое своею милою жизненностью. Самое естественное было бы рассматривать каждого поэта отдельно, но, во-первых, в общей среде это неисполнимо, во-вторых, сами поэты выступают и утверждают себя если не стадами, то известными (часто случайными, почти районными) группами. Но и по группам разбирать весь этот парнасский рой, при всей готовности, нелегко. Разбирать ли их по школам, часто иллюзорным, по городам, по издательствам, по адресам, по личному их между собой знакомству? Все эти подразделения, пригодные в равной мере для известной характеристики, необязательны и неточны. Причем, я думаю, сами же «цех поэтов», «вольное содружество поэтов», «пролетарские поэты» удивились бы, если б их приняли за литературное течение: звание поэта из цеха звучит не более определенно, чем «едок Дома литераторов».
Также ни для кого не тайна, что поэты перерастают даже такие почтенные и явно литературные школы, как символизм, футуризм и, пожалуй, имажинизм. Для всех Сологуб – Сологуб, и уж потом где-то в закоулках памяти – символист, Маяковский – Маяковский, Есенин, Клюев и Ивнев – сами по себе, я даже не знаю, к какой школе при быстрой смене ориентации они себя приписывают. Но, конечно, Эрберг – символист, Крученых – футурист, Мариенгоф – имажинист, потому что отнимите у них значение школы, и они потеряют всякий смысл. Такая же не органическая, а выдуманная и насильственная школа, как акмеизм, с самого рождения лезла по швам, соединяя несоединимых Гумилева, Ахматову, Мандельштама и Зенкевича.
Мне лично удобнее всего разбираться, не считая отдельных поэтов или одиночных поэтических событий, по признакам, применительным ко всем школам и районам: по присутствию своего лирического содержания, по специально взятой теме или по исключительно техническим задачам и исканиям.
За последние годы событий в поэзии, не считая сделавшегося всемирным событием появления «Двенадцати» А. Блока, последнего обострения и фокуса его таланта, немного: «Мистерия-Буфф» (к которой можно присоединить и «Сто пятьдесят миллионов») Маяковского, необыкновенная популярность Ахматовой и выступление Анны Радловой.