Убийство времени. Автобиография - [19]
«Прежде чем я начну излагать свои соображения, — говорил я, — я хотел бы обратиться к событиям, которые произошли в результате моей первой лекции. У меня есть некая очень четкая позиция. Я не собираюсь отклоняться от нее в результате каких бы то ни было реплик, сделанных кем угодно в этой аудитории, по причине того, что для меня моя позиция является безусловно верной. Таким образом, моя речь будет иметь определяющий и абсолютный характер. Пусть всякий возьмет из нее то, чего он заслуживает. Я не называю никого по именам, и никто из тех, чья совесть чиста, не должен быть ею задет». Это было обращено к моим однополчанам, но также адресовалось и наставникам, которые критиковали меня за то, что я был lebensfremd — чужд общей жизни. «Что вы имеете в виду под жизнью?» — спрашивал я. «Если бы я последовал вашему примеру, я бы транжирил свое время на посещение мест, которые напоминают непропорционально разросшиеся деревни, и обсуждал бы ветер и погоду в компании бестолковых женщин. И это вы, филистеры, зовете «жизнью»?» «Истинная связь между вещами, — вещал я, — являет себя одинокому мыслителю, а не людям, которые очарованы шумом и гамом». Люди бывают разных профессий и разных взглядов. Они подобны наблюдателям, которые смотрят на мир через узкие окна запертого строения. Время от времени они собираются в середине этого дома и обсуждают то, что видели — «один наблюдатель будет рассказывать о прекрасном пейзаже с багряными деревьями, багряным небом и багряным озером посередине; другой — о бесконечных голубых просторах; третий — о великолепном пятиэтажном здании; они будут спорить между собой. Наблюдатель на вершине этого строения [то есть я] может только посмеяться над их спорами — но для них спор будет реальным, а он сам покажется им нездешним мечтателем». В реальной жизни, говорил я, все ровно так и обстоит. «Всякий человек имеет свои устойчивые взгляды, окрашивающие ту часть мира, которую он воспринимает. А когда люди сходятся для того, чтобы понять природу целого, к которому они принадлежат, они обречены говорить и не быть услышанными; они не поймут ни самих себя, ни других. Я часто с болью испытывал эту непроницаемость людей — что бы ни случилось, что бы ни было сказано, все это отскакивает от гладкой поверхности, которая отделяет их друг от друга».
Моим основным положением было то, что исторические периоды, такие как барокко, рококо и век готики, объединены между собой некой скрытой сутью, которую может понять только одинокий сторонний наблюдатель. Большинство людей видят лишь самое очевидное. Например, все они цитируют Арндта, Кернера и Шенкендорфа для того, чтобы проиллюстрировать дух освободительных войн (в который раз в ход идет Наполеон). Это, говорил я, очень наивно. Мы можем признать, что военные времена производят на свет воинственных писателей, — но этим не исчерпывается природа этих времен. Нужно изучить также и тех, кто не был охвачен патриотическим пылом или, возможно, противился ему; они также представляют свой век (в качестве примера я привел многочисленные интересы Гёте в поздний период его жизни). Во-вторых, сказал я, ошибочно считать, что суть исторического периода, который начался в одном месте, может быть перенесена в другой период. Конечно, влияния будут, это верно; например, французское Просвещение повлияло на Германию. Но тенденции, которые происходят из такого влияния, объединены со своей причиной одним лишь названием. Наконец, ошибочно оценивать события, сравнивая их с неким идеалом. Многие писатели осуждали тот способ, которым католическая церковь преобразила «добрых германцев» в средние века и склонила их к действиям и верованиям, неестественным для них. Но эти «неестественные» действия не происходят из действий одной личности или какой-то группы людей; они происходят из мышления, которое производит агрегатную смесь, а не гармоническое целое. Будучи чисто формальной силой, мышление работает с помощью анализа и перекомпоновки. Однако готическое искусство производило гармонически цельные объекты», а не агрегатные смеси. Это говорит нам о том, что формы церкви не были инородными (artfremd — расхожий термин того времени), а жители Германии той поры были настоящими христианами, а не трусливыми и подневольными рабами. Я закончил свой спич тем, что этот извлеченный из истории урок применил к отношениям между немцами и евреями. Предполагается, что евреи — инородцы, говорил я; о них говорят, что они-де исказили немецкий нрав и превратили германскую нацию в сборище пессимистичных, эгоистичных и материалистичных индивидуумов. На самом деле, продолжал я, немцы достигли этого состояния самостоятельно. Они были готовы к либерализму и даже к марксизму. «Все знают, как еврей, будучи тонким психологом, воспользовался этой ситуацией. Я имею в виду, что почва для его работы была хорошо подготовлена. Наша неудача — дело наших собственных рук, и мы не должны винить в ней еврея, француза или англичанина».
После этих учений я отправился домой на Рождество, затем снова в Кремс — за новым снаряжением, и потом снова на фронт. 2 января я записал (в том же дневнике, из которого только что цитировал): «Предпоследний день моего отпуска. Завтра мы уезжаем, чтобы вновь слиться с буйным хаосом, имя которому — война. Как долго еще она продлится? Остаются лишь воспоминания: о моих книгах, о моем отце, о всех вещах, которые я научился любить и которые теперь пристали ко мне и причиняют мне боль… Как легко было потешаться над традицией — этой заботой о вещах, которые давно себя изжили! Не я ли проповедовал: «Забудь своих родителей! Забудь семейные узы — они для тебя лишь помеха; думай о себе, о собственных целях, и попытайся их достичь, — и вот теперь это я — тот же человек, что, уезжая, не может выпустить из объятий отца, и даже крохотный предмет, который он держал в руках, трогает меня до слез. А что насчет моих книг? Всякий день я боюсь потерять их, и я не знаю, что почувствую, если они достанутся врагу… Надо учиться отказывать себе в простых удовольствиях, и война в этом смысле — великий учитель. Война проявляет сущность характера — многие наносные черты исчезают…» и так далее. Что за странная смесь подлинных чувств и пустой болтовни — милый мой! Тут не обошлось и без Ницше — я читал «Заратустру» и был очарован напыщенным стилем этой книги.

Пол Фейерабенд - американский философ, автор знаменитой «анархистской теории познания».Как определить соотношение между разумом и практикой? Что такое «свободное общество», какое место отведено в нем науке, какую роль играют традиции? На чем должна быть основана теория, которая могла бы решить основные проблемы «свободного общества»? Об этом — знаменитая работа П. Фейерабенда «Наука в свободном обществе», впервые публикуемая на русском языке без сокращений.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
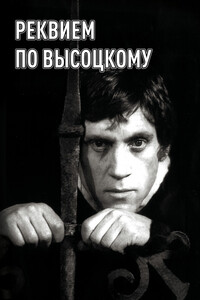
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.