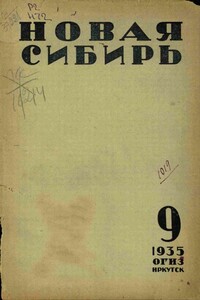Тысяча и одна ночь - [10]
— ...«Обнаружена провокация»...
Почувствовав холод в сердце, мгновенную боль и вместе с нею негодование, Никитин сцепил зубы:
— Кто?..
И следя дальше за страницами, на которых по узорно-расцвеченному ковру восточной сказки с лампой Аладина, с превращениями, принцами и принцессами, — жесткие точечки, словно невзначай, отметили буквы, слагавшиеся в обличительные слова, — он получил разящий ответ:
— «Синявский выслежен. Попался в подстроенную для проверки ловушку. Ходит к ротмистру на частную квартиру. Выдал технику, ряд работников»...
Дважды проверил Никитин сообщение. Дважды обжегся негодованием, обидой, нестерпимой болью утраты чего-то неповторимого. Бросил трепанную книгу на железный столик, рванул спутанные вихры на голове, слепо пошел по одиночке (семь шагов в длину, три в ширину), уткнулся в кованную зловещую дверь, повернулся зло и негодующе, увидел вверху, в сводчатом потолке коварное, решетками заставленное окно и не остановился. Дошел до стены, повернулся, снова пошел. Так — долго, до тяжкой и глухой усталости, до одури. На семи шагах прошел томительные версты: словно в знойной пустыне, одинокий и затерянный, совершал он ненадежный и бесцельный путь.
Но нужно было идти, идти во что бы то ни стало, ибо неподвижность убивала, а движение давало еле теплющуюся надежду на спасение, на жизнь.
Слепо шел по одиночке Никитин; бессильный раздвинуть каменные глухие стены, сжимал кулаки, кому-то грозил и беззвучно кричал:
— Гад!.. Негодяй... У-у, гадина!..
Брошенная на железный столик книга раскрылась, растопырив пухлые листы, колеблющиеся при стремительных поворотах Никитина по камере. Книга раскрыла сердце свое. Может быть, на том месте, где повествовалось о великодушном и мудром Гарун аль Рашиде, тайно и невидимо для правоверных, в платьи простого из простейших, обходившем синими сказочными ночами спящие улицы и пахучие площади волшебного Багдада.
XVI.
Переодетый простолюдином Гарун аль Рашид синими звездными ночами творил справедливость в волшебном Багдаде.
В сказках справедливость всегда вспыхивает и вьется затейливым узором именно ночью. Непременно ночью злодей и притеснитель, вор и разбойник, угнетатель сирот и вдов, прелюбодей и порушитель чести обретают на себе карающую руку справедливости.
В сказках справедливость быстра, стремительна и никогда не опаздывает. Никогда не опаздывает...
— Комитет не даст своей санкции!..
Глаза под очками глядят непреклонно. Ласкающий блеск погас в них: они поблескивают холодной неприязненной решимостью.
— Анна Павловна, к чорту это дело — санкцию! Мы справимся с этим быстро. У нас уже почти все подготовлено. Пусть только нас не одергивают и не мешают нам. А?
— Повторяю, комитет не даст своей санкции. Нечего больше об этом разговаривать.
— Ах, язвенский народ! Да ведь нельзя же спускать безнаказанно такую подлость! Главное — все обделали мы хорошо. Путь к нему нашли великолепный. Сам в руки пойдет, никаких усилий не надо будет. Почти никаких.
— Все равно. Все равно. Силы у нас все на счету. Не имеем права рисковать. Есть посерьезнее дела, чем уничтожение провокаторов, да при том еще и разоблаченных, значит, обезвреженных...
— От него вред был большой!
— Теперь он почти безвреден.
— А то, что Иван получил четыре года каторги? А умирающая в Централе Мария Ивановна? А шесть товарищей, запутанных в Красноярское дело?.. Анна Павловна, мы возьмем весь риск на себя!..
— Нельзя! Не мальчишествуйте, Павел! Не растрачивайте бесполезно сил. Вам найдется другая работа, серьезная и нужная.
— Ведь это дело тоже нужное.
— Нет. Сейчас это дело вредное. Позже. Когда-нибудь, но не теперь, когда каждый работник должен делать только то, что непосредственно полезно.
— Ну, и беда с вами! — Белокурые кольчики кудрей встряхиваются, сползают на ясный широкий лоб. Сильная рука небрежно и быстро забрасывает их вверх. Под ясным лбом, под наморщившимися бровями, огорченно тускнеют глаза.
— Ах и беда с вами, с генералами! Самое лучшее — не спрашивать вас, и по-боку эту санкцию. А, Анна Павловна!?
Анна Павловна гневно трогает очки, морщит лоб, машет рукой.
— Павел! — строго говорит она. — Павел, оставьте ваши фокусы! Не выходите из дисциплины!..
— Я, ведь, это так, к слову! — бормочет Павел: — никуда, ведь, не денешься от вас.
И вспыхивая какой-то безболезненной усмешкой, отчего лицо его, молодое и открытое, делается сразу старше и углубленней, он наклоняется к Анне Павловне и спрашивает:
— А если он сам?.. Ну, совесть зазрит... Как Иуда... Если так?
Анна Павловна снимает очки, протирает их платком. Без стеклышек глаза ее добрее: ласковый блеск в них, от ласкового блеска, от мягкой доброты они близоруко щурятся.
— Мальчик вы, Павел! — мягко говорит она. — Фантазер! Такие не убивают себя из-за угрызения совести! Нет! Это мелкий, подленький жулик. Это — не герой... Оставьте эти глупости, Павел. И не хитрите со мною.
— Я с полной откровенностью к вам, Анна Павловна! — хмурится Павел. — Если бы хитрил, не пошел бы исповедываться к вам, спрашивать разрешения. Я с открытой душой...
Павел вздыхает.
— Знаю, знаю, Павел, и верю вам. Вы глупостей не наделаете.

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Общая тема цикла повестей и рассказов Исаака Гольдберга «Путь, не отмеченный на карте» — разложение и гибель колчаковщины.В рассказе, давшем название циклу, речь идет о судьбе одного из осколков разбитой белой армии. Небольшой офицерский отряд уходит от наступающих красных в глубь сибирской тайги...

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.