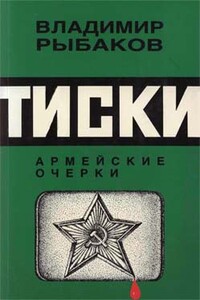Тяжесть - [58]
В камеру к Коле я не пошел. Передал через часового сигареты, сгущенное молоко.
Шел обед, когда парторг полка Рубинчик вошел в столовую караульного помещения. Как старший по званию, я вскочил:
— Встать! Смирно! Товарищ подполковник…
Намазанные насмешкой глаза его блеснули:
— Вольно!
Терпеливо дождавшись окончания принятия пищи личным составом, парторг приказал:
— Всем, кроме младшего сержанта Мальцева, покинуть помещение.
Лицо его в опустевшей столовой стало из бесстрастно-парторжьего злым и злорадным. Никогда еще нависшая надо мной угроза не была так готова воплотиться в дело. И всё же я был спокоен, как фаталист. Первый вопрос Рубинчика я знал заранее, едва расслышав его ехидное:
— Вы уже наведывались к своему другу Свежневу?
— Никак нет, товарищ подполковник, не привык во время выполнения боевого задания, каковым является караульная служба, отвлекаться от дела.
Парторг задвигал челюстью, словно жевал неподатливую мысль. Я не мог не отвечать насмешливым презрением на его ехидную злобу.
— Как же так, Мальцев, вышло? Как плохо, а?
— Так точно, плохо.
— Как же всё произошло?
Это было странной провокацией. Неужели, подумалось, он так низко пал, чтобы надеяться взять меня так просто. Да и зачем? Он прекрасно знает, что есть черта, за которую я не переступ-лю, не могу переступить: я не смогу оклеветать Колю в трибунале. А если он не знает, что не смогу? Я быстро шагнул к двери. Коротким рывком приотворил ее. Стукачей не было. Рубинчик улыбался, розовея в скулах.
— Вы прекрасно знаете, товарищ подполковник, как всё произошло.
— Конечно. Мне только искренне жаль, что Свежнев, а не вы, Мальцев, зверски избили лейтенанта Чичко во время выполнения боевого задания. Жаль. Парторг розовел на глазах. — Да. Жаль. И вот что, Мальцев, если вы по состоянию здоровья или по другой столь же уважитель-ной причине не сможете явиться в трибунал… — Он с трудом говорил… ему не хотелось говорить. …то мы не будем настаивать.
Во мне сжалось в комок нечто сильнее изумления.
— Кстати, — вновь прожевав не то мысль, не то ярость, продолжил Рубинчик, — после караула зайдите в штаб… Вами интересуется канцелярия маршала Якубовского. Спрашивает: останетесь ли после службы у нас в СССР или поедете на Запад… Я бы нашел, что у тебя спросить и куда тебя послать… Жаль, Мальцев, жаль.
Он вышел, видимо понимая, что перестает владеть своими чувствами.
Я долго сидел, мял щеку, сведенную судорогой. Мне вновь везло. Только благодаря ходатай-ствам матери в Москве мне дали отпуск. Последующие ее хлопоты уже из Франции породили это письмо маршала Якубовского. Ни Молчи-Молчи, ни Рубинчик не решились меня посадить. Было бы слишком много шуму. Москва всю ответственность свалила бы сразу на спины моих непосред-ственных начальников. Москве было бы неприятно слушать жалобы французских инстанций, а покровским командирам пришлось бы долго и трудно расхлебывать эти жалобы, эту кашу, кото-рую, как сказала бы Москва, они заварили сами. Ни Рубинчик, ни я не знали, что никто бы не стал жаловаться, не стал бы писать в ООН, президенту Помпиду, Брежневу. Ни Рубинчик, ни я не знали, что вот уже три недели, как нет в живых Мальцевой, что мать моя покончила в Париже жизнь банальнейшим самоубийством.
После караула зашел в штаб. Рубинчик и замполит полка Драгаев с полчаса уговаривали письменно выразить желание остаться после службы в нашем советском отечестве. Уговаривали, как всегда, угрозами. Их ругань была бессильной, была острой приправой к моей довольной уверенности в завтрашнем дне. Я написал на бланке, присланном из канцелярии маршала Якубовского:
"По семейным обстоятельствам буду вынужден покинуть пределы Советского Союза".
Это было ложью. У меня уже не было семьи и ничего, кроме рождения, что связывало бы меня с Францией и с ослепительно заманчивой свободой.
Идя в казарму, остановился, обнял первое попавшееся дерево. Оно было тощим и слегка пованивало своей освобожденной весной старостью. Прижавшись щекой к грязному стволу, чувствовал дрожь тела, бьющегося в тихом припадке трусливой радости. Страшно было идти в казарму, оставив за спиной молчащего Свежнева. Свернув, пошел на губу, стараясь заглушить в себе всякую мысль и всякое чувство. Свежневу отвели лучшую камеру гауптвахты. Как подслед-ственному, ему внесли в камеру койку, тумбочку, простыни, наволочку и книгу для политучебы "На страже Родины". Подкатив камень к стене, стал на него. Сверху смотрели спокойные глаза Свежнева. Он был бледен, выражение лица было напряженно думающим. Сказал:
— Ну что, будешь меня судить?
— Нет.
Он не выразил удивления.
— Значит, не будешь свидетелем?
— Нет.
— А Быблев?
— Нет. Они сказали, что его с нами не было, что остался при тягаче.
— Правильно сделали, что сказали. Значит, один Нефедов. Так. Зачем пришел?
— Чтобы сказать.
— Вот ты и сказал. Я тоже хочу тебе сказать: ты самая последняя сволочь, какую я видел в жизни. Надеюсь, что никогда больше не увижу тебя. Таким, как ты, нельзя прощать. Даже если бы хотел, не имел бы права перед собой и своей совестью. Не только совестью. Я знаю, такие, как ты, будут самыми яростными противниками нашего будущего демократического социализма, врага-ми, скользкими и липкими, не явными. Но так уж вышло, что кроме тебя, мне просить не у кого. Послушай, у меня в матраце стихи. Сохрани их, а если не можешь, уничтожь. Обещаешь?
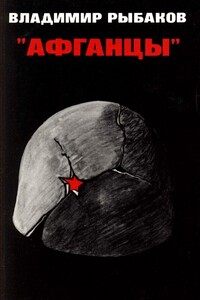
Владимир Рыбаков — русский писатель.Родился во Франции в городе Але (Alès) в семье коммунистов-интеллигентов. Отец — поляк, мать — русская. В 1956 вместе с родителями репатриировался в СССР. В 1964 поступил на исторический факультет Черновицкого университета, в 1966 исключён и призван в армию. Служил на советско-китайской границе. После демобилизации в 1969 работал грузчиком, сварщиком, слесарем.В 1972 вернулся во Францию. Работал в газете «Русская мысль», где печатались его статьи. Печатался также в журналах «Грани», «Континент», «Время и мы», «Эхо».
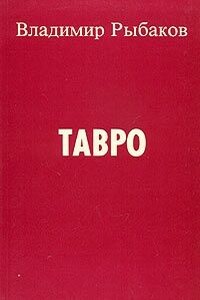
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.