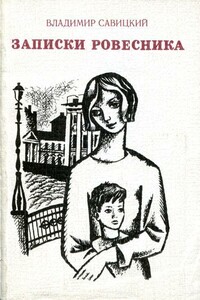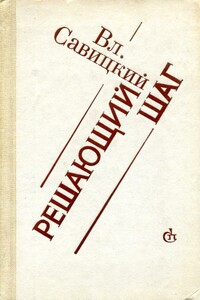Она словно отрешилась в этот миг от того, что я — не просто солдат, что я — ее сын.
Ей словно вдруг стало безразлично, какой ценой отстоим мы Город, погибну я при этом или нет.
Отстоять было моим долгом.
Теперь-то я понимаю: все это мне почудилось, померещилось — она же минуту назад взахлеб радовалась тому, что я жив, что я ей звоню, умоляла беречь себя…
Теперь-то я понимаю, но тогда, в девятнадцать лет…
Впрочем, нет: я и теперь не знаю толком. Может, так оно и было сказано — от мамы всего можно было ждать.
Я сидел у стола и размышлял. Неужели с моей стороны было трусостью — предложить ей такое? И еще: откуда взяла она силы так спокойно мне ответить? Глубокой ночью, не имея времени толком подумать…
Старая закалка?
Что значит — старая? В августе сорок первого ей должно было стукнуть сорок пять.
Я встал и тихонечко вышел на улицу. Стояла тихая ночь, ничем не связанная с войной, насилием, смертью. Потеплело вроде… Я постоял на крыльце, еще раз переживая наш разговор, послушал шепоток природы — и неожиданно остро ощутил в себе прилив уверенности.
Моя бессильная ярость стала целенаправленной: теперь я мог поразить ею противника, как змея — жалом, как слон — хоботом, как герой моих детских книжек зулус — копьем.
Война ничего не изменила в обычной маминой твердости — вот в чем, пожалуй, было дело. «Новые» оттенки ее голоса оказались случайными, привычно жесткое «Василий» заставило позабыть все эти «Васильки».
Незыблемость маминой позиции попросту передалась мне, ее сыну. По железному проводу длиной в триста километров, из трубки в трубку, из уха в ухо. Основы были, вероятно, заложены гораздо раньше, «запрограммированы» в ходе воспитания; посланного матерью импульса оказалось теперь достаточно, чтобы я отчетливее осознал свой долг.
Свой долг и уверенность в завтрашнем дне — если этот день для меня наступит. Ну а не будет его, так и не будет… Каждый, кто эту войну пережил, помнит, что убегать от бомбы бессмысленно.
Я стал взрослым в эти минуты, я перестал быть песчинкой, которую нес ураган.
На скособочившемся деревянном крылечке поселковой почты стоял человек, готовый осмысленно сопротивляться стихии.