Трое - [10]
Боязно топиться, страшно: вода черная и холодная. Да и чего ради Митька умирать будет? Он, что ли, семью предал? Отец предал, отец должен и отвечать. И Митька совершит правый суд над ним! Сейчас он вернется домой и убьет отца. Да, да, убьет! Возьмет топор или молоток — что под руки попадется — и, ни слова не говоря, замахнется. Он смелый, хоть и драться не любит. И свою смелость он докажет сегодня. Сейчас…
Что — отвечать придется? Ответит — не испугается. Только ведь и оправдать могут, если он все про отца расскажет. И, в первую очередь, про то, как он застал его у Таиски.
Митька встал, высморкался и с суровым лицом побрел домой.
Пока он брел, злость помаленьку проходила. К тому же становилось жалко мать. Вдруг за убийство не оправдают, а посадят его, Митьку, в тюрьму? Как тогда она с четырьмя детьми справится? Мать хоть и ворчит на него иногда: никакой помощи-де от тебя не вижу, — а соседкам, Митьке это известно, нахваливала его: ворчун малый, вредный, да исполнительный. Но любит, чтобы его попросили. Усмехнулся: «Тут мать права, выкобениваться я мастер».
Ладно, отца он оставит в живых. И даже не разболтает про то, как сегодня прихватил его у Таиски Чукановой. Но отношение к отцу он теперь изменит — это уж как пить дать.
Домой вернулся он затемно. В хате бледно светились окна — над столом горела коптилка. Перед тем как открыть дверь, Митька остановился на несколько секунд у окна. И увидел: на конике сидит улыбающийся отец, он что-то рассказывает веселое или забавное, и вся семья с наслаждением слушает эти россказни. Только его, Митьки, нет.
Споткнувшись в сенях о лежавший под дверью топор, он медленно ввалился в хату.
ФРОСЯ
Фрося услышала почти обессиленный Дашин голос:
— Тё, пить ужасно хочу.
У церковной ограды, в тени ракит и тополей, на которых возле своих расхристанных гнезд безумолчно каркали вороны, она остановилась. «Я и сама не против перехватить глоток-другой холоднячка, — подумала Фрося, — в горле пересохло». И сняла со спины уже нагревшуюся на солнце котомку, прислонила ее к ограде:
— Ставьте тут.
Вместе с Дашей она направилась в ближайшую хату — через дорогу, а Митька остался сторожить котомки.
Фрося первой ступила на низкое крыльцо, открыла дверь в сенцы.
— Есть тут кто? — спросила она темноту.
Ни звука.
Прошли в сенцы, Фрося с трудом нащупала ручку двери, что вела в хату. Ручка была прибита слишком низко.
В хате, несмотря на солнечный день, стоял полумрак: висела густая пыль, и солнечные лучи, едва пробивавшиеся сквозь нее, казались осязаемыми.
— Здравствуйте вам.
— Здоровы были.
Из полумрака возникла согнутая подковкой старуха, с веником из свежей полыни в руках, — она подметала земляной пол.
Старуха присела на лавку у стола, освободила из-под платка ухо, приготовилась слушать.
— Нам бы попить.
— Что? Попить? Да пейте — жалко, что ль, воды?
Возле печки, на шаткой табуретке, стояло цинковое, давно не чищенное ведро, накрытое квадратной дощечкой. Фрося взяла с дощечки легкую алюминиевую кружку, зачерпнула воды. Выпила два глотка, сполоснула горло и передала кружку Даше.
— Пей.
Даша зачерпнула полную кружку. Вода была теплая, но вкусная, мягче их, карасевской, что вдобавок пахнет еще и железной рудой.
Даша, не отрываясь, выпила целую кружку.
— Спасибо.
Старуха покивала головой.
— На здоровье, деточки. — Заглянула Фросе в лицо: — Далёко идете?
— В белый свет, — ответила Фрося.
— Далёко?
— В Подолянь. Слыхала?
— Слыхала, а как же? Мой покойный дед был оттудова… К своим идете?
— К своим.
— Нынче много народу в те края ходит. — И — шепотом: — Скоро, говорят, наступление начнется. — Старуха облокотилась на стол. — Скорей бы ету немчуру побили. Двух сынов моих, искариоты… — Она подняла к глазам замасленный фартук, вытерла глаза. — Под етим, под Сталинградом…
Фрося поняла, что если они еще хоть минуту побудут здесь, то старуха вконец расстроится, и она потянула Дашу за рукав:
— Идем. — Потом — старухе: — Прощай, бабушка!
— Спаси вас господь… На обратном пути-то заходите, невестку с детьми увидите… Счас они на поле…
Когда они вернулись к своим котомкам, Митька, прислонив ладонь ко лбу, смотрел в небо.
— Что там? — поинтересовалась Фрося.
— Наш и ихний, — не отрывая глаз от неба, ответил он.
Даша, воспользовавшись тем, что Митька смотрел вверх, быстро сняла чулки, державшиеся на тугих резинках, завязала ходаки на голых теперь ногах и успела отыскать в небе два самолета. Самолеты — небольшие серые точки, неизвестно, какой наш, какой немецкий, — в самой вышине то гонялись друг за другом, то, когда один успевал неожиданно резко сделать поворот, сходились.
— Над станцией, — предположила Фрося (это в трех километрах от Карасевки).
— Ближе, — не согласился Митька, — в конце Нижнемалинова.
Вдруг над одним самолетом вспыхнул черный факел.
— Нашего, — выдохнул с горечью Митька.
— Откуда ты знаешь? — не согласилась Даша.
— Оттуда. Разве «мессера» не узнаёшь — тонкий и длинный?
Горящий самолет, переворачиваясь, падал к горизонту. Вот его черный хвост коснулся земли, и наступила — на несколько секунд — зловещая тишина. И только потом донеслось глухое эхо взрыва.
У Фроси сжалось сердце. Вроде бы затишье кругом — с самой зимы. Немцы — там, наши — тут. Но война, оказывается, не прекращается. Ни на день, ни на час. Просто наступила непонятная передышка.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о детстве, о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.
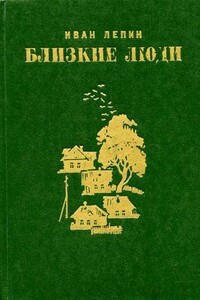
Повести и рассказы Ивана Лепина о наших современниках, о людях труда. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, любви, мужества, честности, благородства.

Повести Ивана Лепина о любви, о непростых человеческих отношениях. Автор решает нравственные проблемы, поверяя своих героев высокими категориями добра, мужества, честности, благородства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
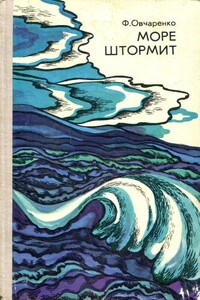
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.
