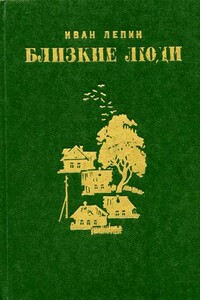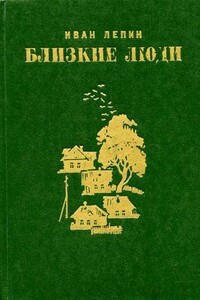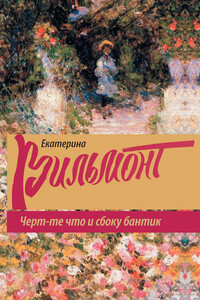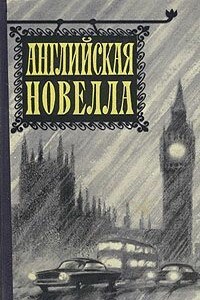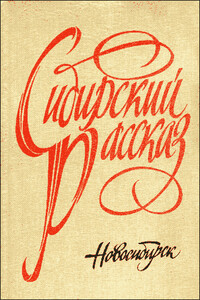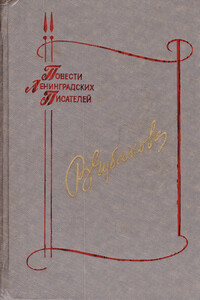Своего петуха у них теперь не было, и Даша с матерью, не надеясь друг на друга, неспокойно ворочались всю ночь — боялись проспать. А к утру обе крепко уснули. Разбудил их стук в окно.
— Марусь, ай ты еще, милая, спишь?
Мать мгновенно подхватилась и запричитала:
— О господи, что это со мной случилось? И вправду не надо было резать петуха, не зря Дашка отговаривала…
Она в спешке надела юбку задом наперед и резво — откуда у нее, беременной, прыть взялась? — кинулась в сенцы открывать дверь.
Даша соскочила с лежанки следом. Не глядя, хватала с приступка с вечера приготовленную одежду и впопыхах напяливала ее.
Наклонила висячий глиняный рукомойник, набрала пригоршню теплой воды, плеснула себе в лицо.
На улице уже развиднелось, из конца в конец деревни перекатывался петушиный переклик.
Мать позвала Фросю Тубольцеву в хату, но та, слышала Даша, решительно отказалась:
— Собирайтесь скорей, я тут вот, на завалинке, обожду.
Даша заспешила в погреб — он на дворе находился, за хатой. Там, на пятой ступеньке, она безошибочно — сама вчера ставила — нащупала махотку с маслом, баклажку с молоком, вареного петуха, завернутого в белую тряпицу, десяток вареных яиц — тоже в тряпице. Остальное — хлеб, две ситные лепешки, кусок сала, два, с мизинец, первых огурца, кисет с табаком-самосадом — было уже уложено в котомку, сшитую из грубого домотканого полотна.
Открылась скрипучая дверь чулана, и в хату вошла заспанная тетя Шура Петюкова, эвакуированная, схватила Дашу за рукав кофты:
— Дочка, уважь, не посчитай за труд, передай моему старику, — и достала из-под фартука бутылку самогона-первака. — Он там, поди, со своими суставами замучился.
Пока укладывали еду да увязывали котомку, от разговоров проснулся Сережка, тринадцатилетний Дашин брат. Он слез с печи на приступок, протер глаза и стал канючить:
— Мам, ну можно я пойду? Все Дашка да Дашка… А я тоже хочу на отца посмотреть.
Матери было некогда, она металась по хате — как бы чего не забыть, — помогала Даше подвязывать чулки, легкие матерчатые ходаки, потому резко прикрикнула на сына:
— Сиди уж! Распустил нюни. Вернется отец — насмотришься.
— А если не вернется?
— Чего? — разогнулась мать и метнула в сторону Сережки грозный взгляд. — Счас возьму веревку, я тебе покажу «не вернется»!
И тот на время притих.
Будь Дашина власть, она бы Сережку с собой взяла. Ведь не ему нести котомку, налегке же он не устанет. Целый вон день бегает — не умаривается. И тут бы ничего с ним не случилось. Но мать… Попробуй ей возрази! Строгая она. Если что решила, редко когда отступится. Больше того: встанешь на Сережкину сторону, мать и ее, Дашу, может не отпустить. Так что, братец дорогой, извини. Придется тебе снова дома посидеть.
Даша завязала наконец ходаки. Приподняла, как бы взвешивая, котомку — проверила, надежны ли лямки.
Мать помогла поднять котомку на спину Даше. Прикинула: «Не меньше пятнадцати фунтов. Не так уж и тяжело, но дорога ведь неблизкая. Уж лучше б все-таки самой было идти».
Обеспокоенно спросила:
— Ничего не давит?
— Не.
— Ну, с богом, дочь. — И повторила наставление: — Значит, не забудь: кумою, мне кажется, можно позвать Ксюшку Родионову, а кумом… Егора хотели, дак теперь он на фронте. Нехай отец посоветует: или деда Емельяна, или Василька — раз уж мужиков нетути. Да нехай имя подскажет — и мальчику, и девочке, на всякий случай.
В темном углу приступка отчаянно всхлипывал Сережка:
— Мам, ну пусти…
Мать и ухом не повела на этот всхлип — будто не слышала.
На улице она пособила Фросе Тубольцевой надеть котомку, проводила ее и Дашу до дороги. Неподвижными глазами грустно смотрела им вслед, скрестив руки на сильно выпиравшем животе.
Примерно в те минуты, когда проснулся от разговоров Сережка, разбудили и его дружка, Митьку Алутина, жившего по соседству, через одну хату.
Был он всего на полтора года старше Сережки, но уже считался за главного в семье.
Митька спал на чердаке: в хате было полно детей, своих и эвакуированных. Мать буквально за ноги подтянула его к лестнице.
— Слазь, супостат ты этакий!
Митька сонно огрызнулся:
— Самой сходить лень, а меня посылаешь.
— Дурачок, да на кого ж я эту ораву оставлю? Слазь быстрее, вот-вот Фрося с Дашей придут.
Орава — это Митькины три младшие сестры и братишка Ваня. Ему год с небольшим. Только ходить начинает. Оставаться с оравой тоже не мед: то и дело их корми, умывай, приглядывай, чтобы на речку не ушли. Надоедят за день хуже горькой редьки.
Но и к отцу идти в неизвестные края, размышлял Митька, вытаскивая из нестриженных с зимы волос соломинки, никакой охоты нету. День, наверно, опять выдастся жарким, а тащиться по жаре с тяжеленной котомкой — не в лес за ягодами сходить. Уморишься, как лошадь в пахоту…
— Ма, — несчастным голосом говорит Митька, — можа, в следующий раз схожу? Не нынче…
— Во, идол! И не совестно тебе? Отцу подштанники позарез нужны, а он — в следующий раз? Да и обрадуется тебе отец…
— Подштанники, ма, давай с теткой Фросей или Дашкой перешлем. А передача… Солдат, сама ведь говорила, сейчас лучше кормят — не то, что весной.
— Слазь! «С теткой Фросей…» У них своей ноши хватает.