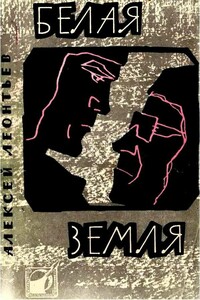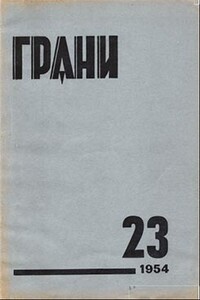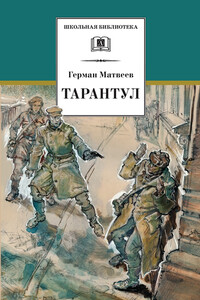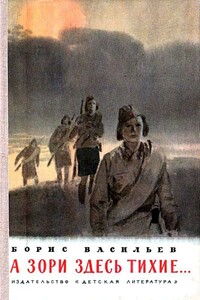– Наябедничала, вредная, – шепчет Гулька. – Чего же теперь нам делать?
– Может, сегодня и удерем? – спрашиваю я робко.
– Выдумал! Во-первых, еще придумать надо, как теперь ящик достать. Во-вторых, еще жратвы на дорогу накопить надо. А в-третьих, шут ее знает; может, она ящика и не видела, – не понял я.
– Хитрущая она, – шепчу, – точно издевается.
– У-у, вредная, – шипит Гулька. – Ну ладно, мы с ней еще посчитаемся. А теперь пошли! И ничего мы знать не знаем, ведать не ведаем. Понял? Кругом пойдем, в обход.
Ящика не хватились и день, и второй, и третий. На двери в угловой комнате появился висячий замок – видимо, его повесили, не проверив вещей. Но в детдоме только и разговоров, что о провалившейся под лед девочке. Мы с Гулькой постепенно узнали, что прозвище девчонки – Вихрашка, что сейчас она лежит в лазарете, потому что очень простудилась. И еще мы узнали – и это нас больше всего потрясло, что она дочка… самого Михаила Ивановича.
Мы с Гулькой даже похудели за эти дни. Когда я заикался о побеге, Гулька зло меня обрывал:
– Не путайся под ногами. Сам знаю, когда уйти. Выжидать надо.
И вот через несколько дней идем мы с Гулькой по коридору, а у окошка стоят несколько девчонок из новеньких, шепчутся о чем-то и ревут все. У меня почему-то сердце ёкнуло. Я подошел к ним и спрашиваю, стараясь погрубее:
– Ну? Чего ревете?
Одна всхлипнула и говорит:
– Вихрашка помирает… Крупозное… Доктор сказал: безнадёжна… – и разревелась чуть не в голос.
И вдруг вижу – директор по коридору идет… Идет, вперед смотрит, точно ничего не видит. А на лицо посмотреть страшно.
Одна из девочек тихо окликнула его:
– Михаил Иванович!
Он остановился, посмотрел, подошел к ним. А они ревут, ничего сказать не могут. И он ничего не сказал, погладил только по голове ту, что окликнула его, и пошел дальше.
Я стою в стороне и сам не понимаю, что со мной. Дрожит у меня что-то внутри, никак мне этой дрожи не унять. А Гулька взял меня за руку, оттащил в пустой класс, ухмыляется.
– Вот и ладно, – шепчет, – помрёт она, так все у нас шито-крыто и останется.
И сам я не помню, как это случилось, но размахнулся я и изо всех сил ударил Гульку по лицу.
Леонтий Федорович замолчал. Наташа подняла голову и посмотрела на подруг. Люся уже не сидела больше между ее мамой и папой, а стояла на коленях на тахте прямо перед Леонтием Федоровичем, не спуская с его лица напряженных глаз. Губы ее были приоткрыты и слегка дрожали. Катя высунула из-под платка Софьи Михайловны всю голову и тоже впилась глазами в рот Леонтия Федоровича.
– И… и умерла? – прошептала она.
– Ой, не надо, чтоб умерла! – вырвалось у Люси жалобно.
Леонтий Федорович улыбнулся.
– Не перебивайте, а слушайте дальше. Ну, словом, подрались мы с Гулькой как следует, а к вечеру помирились. Он сам первый подошел мириться. Я ему уж очень был нужен, – теперь уже никак в одиночку ящик было не достать. Ну а я… черт меня знает, почему я помирился. Глупый еще был, самолюбию мальчишескому льстило, что Гулька сам подошел. А о Вихрашке мы с ним – ни звука, будто ее и не было никогда…
Софья Михайловна вдруг сбросила с себя платок, укутала им Катю с Люсей и встала с тахты.
– Пора ужин готовить, – сказала она, – пойду…
– Ну-у… – в один голос недовольно протянули Наташа и Люся. Катя глубоко вздохнула.
– Сама же, Наташка, скоро кушать запросишь, – засмеялась Софья Михайловна и вышла из комнаты.
– На следующее утро встал я, – продолжал рассказ Леонтий Федорович, – а перед глазами так Вихрашка и стоит, такая, как тогда – на солнце. Пошел я в медпункт, говорю сестре:
– Живот у меня болит. Дайте чего от живота.
Дала она мне каких-то капель, а я – будто между прочим – спрашиваю:
– А как у вас девчонка-то директорова? Померла?
– Да нет, – говорит, – вчера уже совсем было похоронили, и доктор не надеялся, а сегодня лучше. Может, и выкарабкается.
Вышел я из медпункта, – словно это я сам воскрес.
Ну, прошло еще несколько дней. Спасли Вихрашку. Поправляется. И директор совсем ожил, не узнать. И вот – отперли угловую комнату, стали распаковывать вещи. И хватились тут ящика с инструментами. Ну, это долго рассказывать, целое следствие велось.
Ящика так и не нашли, и виновных не нашли, дело заглохло. Я о побеге Гульку и не спрашиваю и сам не признаюсь, что бежать-то мне уж и не хочется. И он молчит. Так прошло много дней. Сидим мы как-то с Гулькой в коридоре на подоконнике, задачу я ему объясняю. И вот видим, идет по коридору директор и с ним Вихрашка. У меня даже сердце остановилось. Вытянулась она, похудела, бледная-бледная, а глаза все те же, только будто усталые немного.
Гулька мне шепчет:
– Влипли! Сейчас ему нас укажет…
А Вихрашка отделилась от отца, подходит прямо к Гульке.
– Слушай, – говорит вполголоса, – ведь гадко ты тогда поступил, не по-товарищески. Я же тебя в бок оттолкнула, а ты зачем меня прямо в реку? Что я тебе сделала?
Вижу, Гулька побелел весь, глаза злющие. А директор идет себе дальше по коридору.
Гулька зашипел:
– У-у, ябеда поганая. Жаль, что я тебя и вовсе не утопил. Попробуй донеси, – тогда увидишь.
У Вихрашки – смотрю – глаза потемнели, ноздри раздулись.