Тревоги души - [2]
– У Сергея в доме, – вдруг произнёс Коля, – слуги обедают с хозяевами за одним столом. Я сам видел, и подле меня, когда я у них обедал, сидела горничная.
Я всплеснул руками от изумления и во все глаза посмотрел на него. Это было ужасно, невозможно. Это было ново до того, что у меня, как будто я заглянул в пропасть, закружилась голова.
– Правда? – хотел я спросить, но голос не вышел у меня.
Но сейчас же налетел откуда-то, из самой глубины взволнованной души, подъём, будто я надышался опьяняющим воздухом, и я с восторгом крикнул:
– Я обожаю их, Коля, – и какие это дорогие, милые люди. Как бы мне хотелось служить у них!
– У них всё иначе, – серьёзно говорил Коля, махая палочкой. – Просто, как у бедняков, но иначе как-то. В доме у них нет гостиной, нет дорогой мебели, портьер. Цветов всегда много. Чай пьют не из стаканов, а из глиняных кружек. Стол не покрывают скатертью. Но всё же у них удивительно хорошо и чувствуешь себя так, как у нас на горе. Мать Сергея чудесно-добрая. Её все любят. Сергей рассказывал, что она по воскресеньям молится в отдельной комнате; туда же приходит молиться и простой народ: дворники, кучера, слуги, даже господа. Отец Сергея не молится с ними, но и он славный, – на Сергея походит… Чудесно у них, – повторил он.
– Так вот почему, – поражённый произнёс я, – Настенька сказала, что она любит бедных. Мы любим бедных, Коля? Скажи правду.
Он задумался. Я стоял подле него, смотрел в окно, как льёт дождь, и также думал.
– Что значит любить бедных? – проговорил я вслух. – Как их любить? Как отца или мать? Жалеть их? Давать им денег?
– Не знаю. Сергей говорит, что людям нужно жить, как братьям.
– Как братьям?! – удивился я, ничего не почувствовав от этого требования. – Разве можно любить Машу. Любить Машу, – повторил я раздельно. – Это меня не трогает ещё.
– Все люди – братья, – и это наверное, – убеждённо проговорил Коля. – Мать Сергея не может обмануть.
– И Андрей – брат? – недоверчиво спросил я. – И Стёпа? Как это странно всё, – прибавил я, вдруг почувствовав, что совершенно замучился от всех этих разговоров.
– Цейлон, Кипр, Суматра, – забормотал неожиданно Коля, с ожесточением завертев палочкой. – Ужасно непонятно… Борнео, Борнео. Для чего это нужно знать? Я в Борнео не поеду. Что такое: Борнео? Бор-не-о, – повторил он, прислушиваясь к слогам. – Никакого смысла. Есть ли там люди, Павка? И может быть в Борнео теперь сидит какой-нибудь мальчик и зубрит название нашего города… Все люди братья, – раскрыв глаза и с ужасом в голосе вдруг выговорил он.
– Все люди братья, – как эхо повторил я.
В горле у меня пересохло от волнения. Что будет с нами?.. Коля остановился против стены и долго всматривался в место на карте, занимаемое Борнео.
– Вот так и старым сделаешься, – проговорил он шёпотом. – Что такое старость?
Я лёг животом на окно и стал смотреть на гору. Она блестела от воды и, оголённая, казалось, дрожала от мокрого холода. Бурьян приник к земле и не трепетал, прибитый дождём. Башня одиноко поднималась над горой, как изваяние из туч, и железная головка на флюгере иногда горела, как лампадка. Странные мысли, томительные, полупечальные, полурадостные, от которых хотелось страстно плакать, как по чем-то утраченном, на груди у матери, чтобы она утешала, окружала всей нежностью и теплотой своей любви, – потянулись у меня в голове. Как верно гора охраняла нас до сих пор от жизни! Словно заботливый старый друг служила она нам. На её земле, в её зелёном царстве, подобно щитам стояли и жили невинные радости и для жизни тяжкой, мучительной, со всеми неразрешимыми вопросами – не было места. Как заколдованные, жили мы. Молчаливые, живые друзья отдавали нам нежно свои крылья, свои голоса, свои краски, свою жизнь, лишь бы наша мысль молчала. Теперь щиты надломились, и новый свет ворвался к нам. Никто не знает, что в нас происходит, и сами мы не сумели бы рассказать, – и в этом было мучительное томление. Будто было по-старому и ничего не случилось, – отец и мать пройдут мимо самого важного, страшного момента поворота в нашей жизни и по-прежнему будут беззаботно давить нашу волю, наши порывы и с детства уже полуизломанные, мы долго будем выпрямлять в себе человека. Думал ли я именно это в минуту, когда я лежал на окне и смотрел на гору? Не знаю, – что-то томительное печальное было в душе, и, может быть, позже мне стало казаться, что я так думал. Безотрадным я видел будущее. Дождь переставал, и в мокрые стёкла уже смотрел край тучи, серой, как пар, но синева неба уже мелькала в ней.
– К вечеру прояснится, – произнёс я вслух.
В комнату вошла бабушка, опираясь на палку, и позвала к себе Колю. И оба вышли, о чём-то разговаривая. Я всё лежал на окне и думал теперь о Сергее, о его матери… Как много мне нужно было узнать у них важного. В чём лежала тайна их обаяния? Кто-то тронул меня за плечо… Я испуганно поднялся. Предо мной стояла Маша.
– Пожалуйста, панич Павочка, – сказала она, – выйдите из комнаты. Мне прибрать нужно.
Подоткнув подол юбки, с тряпкой в руке, стояла она. Рабыня, изваянная, как мало в её жесте лежало своего, в свою защиту. И вся она, грязная от уборки, босая, с красными, затёкшими от слёз глазами – и только думавшая о том, что нужно работать, работать, – показалась мне такой несчастной, беззащитной, всеми брошенной, что и волнуясь, и стыдясь того, что хотел сказать, я невольно крикнул:

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
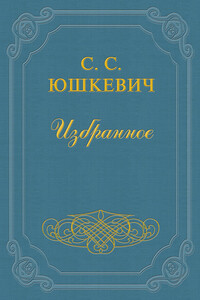
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
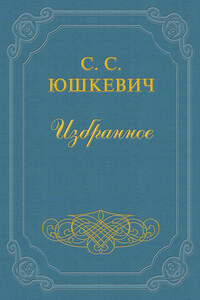
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
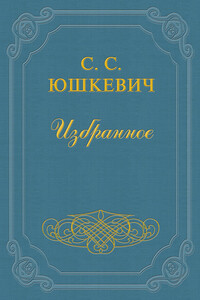
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».
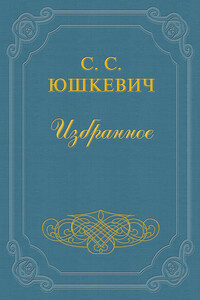
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
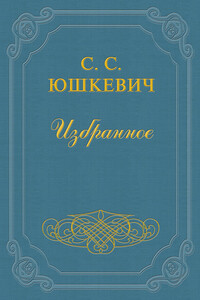
«Малейшее свободное наше движение, громкий разговор, смех, – всё это раздражало его так, что мы не смели шелохнуться при нём. Время для нас тянулось тогда особенно долго, тоскливо и вместе с ним всё казалось каким-то другим, точно и комнаты, и прислуга, и мать, и большой, поросший травой двор…».
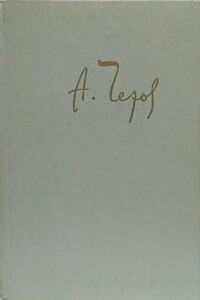
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».