Тотальность и бесконечное - [95]
Свобода может оказывать воздействие на реальность только через институты. Свобода лежит в основании свода законов — она существует благодаря тому, что вписана в институциональное пространство. Свобода зафиксирована в записанных текстах, которые, конечно же, подвержены разрушению, но вместе с тем долговечны; в них человеческая свобода сохраняется независимо от человека. Подверженная насилию и смерти, человеческая свобода не достигает своей цели, как в бергсоновском порыве, мгновенно; она спасается в институтах от собственного предательства. История не является эсхатологией. Животное, создающее орудия труда, освобождается от своей животности тогда, когда, как кажется, его порыв ослабевает и иссякает, когда оно вместо того, чтобы неумолимо идти к цели, полагаясь на собственную волю, создает орудия труда и закрепляет в передаваемых и принимаемых другими вещах способность к будущей деятельности. Таким образом, политическое и техническое существование обеспечивает воле истинность, делая ее, как сегодня говорят, объективной, не подменяя добродетелью и не лишая эгоизма. Будучи смертной, воля способна избежать насилия, изгоняя насилие и смерть из мира, то есть выгодно используя время, чтобы отодвинуть срок платежей.
Объективный приговор выносится благодаря самому существованию разумно устроенных институтов, где воля защищена от смерти и от собственного предательства. Он заключается в подчинении субъективной воли всеобщим законам, сводящим волю к ее объективному значению. В отсрочке, которую предоставляет воле задержка смерти или времени, воля доверяется институту. Отныне она существует под постоянным просмотром общественности, в условиях равенства, которое ей обеспечивает универсальность законов. Отныне она существует так, как если бы она была мертва и воспринималась бы только через оставленное ею наследие, как если бы все, что было в ней субъективным существованием, существованием в первом лице, являлось всего лишь отголоском ее животного состояния. Но воле известен и иной тип тирании: это тирания уже отчужденных продуктов труда, ставших чуждыми человеку и пробуждающих в нем давнюю ностальгию киников [86]. Существует тирания универсального и безличного, иными словами, порядок бесчеловечный, хотя он и не брутален. Вопреки ему человек утверждает себя как неизбывное своеобразие, внешнее по отношению к тотальности, в которую он включен, стремящееся к религиозному порядку, в рамках которого признание индивида укрепляет его в его своеобразии, к порядку радости, не являющейся ни прекращением страдания, ни антитезой ему, ни бегством от него (вопреки тому, в чем уверяет нас хайдеггеровская теория Befindlichkeit [87]). Суждение истории всегда выносится заочно. Неучастие воли в этом суждении выражается в том, что она там предстает всегда в третьем лице. Воля участвует в этом дискурсе косвенно, словно она утратила свою единичность и инициативу и лишилась слова. Между тем речь от первого лица, прямой дискурс, который не требуется объективной мудростью универсального суждения — или просто является объективным данным его анкетирования, — состоит как раз в том, чтобы непрестанно поставлять данные, которые добавляются к тому, что, будучи объектом универсальной мудрости, не терпит более никаких добавлений. Таким образом, эта речь не совпадает с другими видами суждения. Она представляет волю на ее судебном процессе, она осуществляется как ее защита. Присутствие субъективности в приговоре, обеспечивающее ему истинность, является не просто актом сугубо статистического присутствия, а апологией. Субъективность не может полностью удержаться в этой апологетической позиции: одной стороной она обращена к несущему смерть насилию. Чтобы быть полностью в согласии с собой, ей необходимо, за пределами апологии, желать своего приговора. Преодолевать следует не небытие смерти, а пассивность, которая овладевает волей, поскольку та смертна, неспособна к абсолютному вниманию или абсолютному бодрствованию, и поскольку она неизбежно подлежит неожиданному захвату, убийству. Но способность видеть себя извне не гарантирует заранее истинности, если она достигается ценой утраты моей личности. Надо, чтобы в этом осуждении, при котором субъективность полностью присутствует в бытии, не растворились своеобразие и уникальность мыслящего «я», чтобы оно могло углубиться в свое мышление и овладеть своим дискурсом. Необходимо, чтобы осуждение касалось воли, которая была бы способна защитить себя в суждении и своей апологией участвовать в собственном процессе, а не раствориться в тотальности связного дискурса.
Приговор истории выносится в зримом мире. Исторические события — это преимущественно то, что мы видим, достоверность чего проявляется в очевидности. Видимое образует тотальность или стремится к этому. Оно исключает апологию, которая разрушает тотальность, постоянно привнося в нее неиссякающее, необъятное настоящее своей субъективности. Необходимо, чтобы приговор, в котором субъективность должна присутствовать в качестве апологетики, выносился вопреки очевидности истории (и вопреки философии, если она совпадает с очевидностью истории). Надо, чтобы заявило о себе незримое, — чтобы история утратила право быть последним словом, неизбежно несправедливым и жестоким по отношению к субъективности. Однако проявление невидимого не означает его перехода в разряд видимого. Проявление невидимого не приводит к очевидности. Оно совершается внутри доброты, присущей субъективности, которая, таким образом, не подчинена истине суждения, а является источником этой истины. Истина невидимого онтологически порождается субъективностью, которая высказывает ее. В действительности невидимое не является ни «временно невидимым», ни тем, что остается невидимым для поверхностного и поспешного взгляда и что при более внимательном, тщательном всматривании может стать видимым; невидимое не является и тем, что остается невыраженным как тайное движение души либо безосновательно, лениво провозглашается таинством. Невидимое — это обида, неизбежно следующая из приговора истории, даже если история развивается вполне разумным образом. Мужественный суд истории, мужественное суждение «чистою разума» жестоки. Универсальные нормы этого суждения заставляют умолкнуть единичность, где находятся корни апологии и откуда она черпает свою аргументацию. Невидимое, будучи упорядочено в тотальность, ранит субъективность, поскольку по существу суд истории заключается в том, чтобы переводить любую апологию в видимые аргументы и иссушать неисчерпаемый источник уникальности, из которой они проистекают и где никакая аргументация не может иметь обоснования. Ведь в тотальности нет места своеобразному. Понятие Божьего суда есть предельное выражение понятия суда, принимающего в расчет эту невидимую обиду, которая вытекает, для единичного, из суждения — разумного суждения, основанного на всеобщих принципах и, следовательно, видимого и очевидного; в то же время этот суд, будучи скромным, не заглушает своим величием мятежный голос апологии. Бог видит невидимое, сам оставаясь невидимым. Но как конкретно складывается эта позиция, которую можно было бы назвать Божьим судом, которому подчиняется воля, волящая в истине, а не только субъективным образом?

Эмманюэль Левинас (1905-1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М.

Впервые на русском языке публикуются две работы выдающегося французскою философа Эммануэля Левинаса (1906-1996), творчество которою посвящено задаче гуманизации современной философской мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.
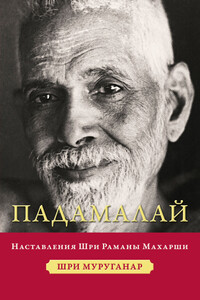
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.