Том 9. Позолоченные пилюли - [6]
— Да, да, — светло улыбнулся его превосходительство, — я уж такой. Люблю печать, нечего греха таить — есть такая слабость.
— О, ваше пр-во! Вы знаете, я даже боюсь идти к редактору — ведь он меня в объятиях задушит. Облапит и задушит! Экое ведь привалило. Ну, да уж нечего делать, пойду — пусть душит. Вы извините меня ваше пр-во, что я шатаюсь… Ослабел совсем, одурел от радости… Где тут дверь!..
Редактор поднял усталые глаза и тихо спросил:
— Ну, что?
— Замечательное известие! Неслыханная радость. Знаете, что он мне сказал?
— Ну, ну?!!
— Я, говорит — люблю печать.
— Быть не может?!!
— Чтоб мне детей своих не увидеть!
Поднялись кверху дрожащие руки редактора, и возведенный горе взор его засветился неземной радостью:
— Свершилось! Кончился великий мученический путь многострадальной русской печати, и воссияет отныне она подобно яркой золотой звезде на синем бархатном небе. Кончены бури и вихри, и вот уже вдали виден тихий лазурный залив, омывающий тихо и ласково теплый, пышнолиственный берег… Спустим же изодранные вихрем паруса, отдохнем, почистимся и понежим свои измученные члены на теплом, мягком песочке… Строк двести выйдет беседа или больше?
— И в триста не уберу.
— И верно! Такое событие — подумать только? Его превосходительство благожелательно относится к печати!..
— Вы знаете, когда я услышал это — у меня, честное слово (не стыжусь в этом признаться), одну минуту было желание поцеловать его руку…
— И поцеловали бы! Разве это иудин поцелуй или продажное какое лобзание? Нет! Святой это был бы поцелуй благодарности за всю огромную счастливую ныне русскую печать!..
Влетел, как вихрь, секретарь редакции.
— Что я слышал? Правда ли это?
— Да. Сущая правда.
— Какое счастье, что от радости не умирают. А то бы я моментально протянул ноги. Слушайте же, знаете, что? Хорошо бы образовать фонд его имени… Как вы думаете, а?
— Это мысль! Распорядитесь, Иван Сергеич.
Долго радостные крики перекидывались из одной редакционной комнаты в другую.
Потом ликование вылилось на улицу.
Собралась огромная толпа читателей газеты.
«Грянуло могучее тысячеголосое медное ура»!
Замелькали флаги…
Тысячи шапок взлетели на воздух…
Подошел городовой.
— В чем дело? По какой причине толпа?
— Его превосходительство в пять часов двадцать две минуты вечера заявил, что любит печать и относится к ней благожелательно.
Серая, простая слеза поползла по огрубевшему, загорелому лицу старого служаки и застряла где-то у сивого уса…
Снял шапку старый служака и истово перекрестился:
— Слава-те, Господи.
— Что это, Иван Сергеевич, что это такое?
— Это? Гранки. Разве не видите? Из цензуры принесли.
— Да позвольте: почему же они красным, этого… Будто этак исчерчены.
— Перечеркнуты, вот и все.
— Но тут же не было ничего ужасного. Ничего нецензурного…
— Да-с. Зачеркнуто.
— Но ведь его превосходительство… А! Понимаю. Он еще не успел дать соответствующих распоряжений. Вот они и усердствуют.
— Наверное, завтра утром распорядится.
— Я и сам так думаю. Рискнем пустить это… красненькое, а?
— Ну, конечно. Завтра недоразумение выяснится, и все хорошо будет.
— Ясно. Пускайте.
Пустили.
— Позвольте… Что же это такое?
Глаза редактора глубоко запали и очертились темными кругами.
— Как же это так, а?..
— А что?
— Оштрафовали нас нынче и под предварительную цензуру всю газету отдали…
— Да. Странно.
— Гм! А говорил: «Люблю печать».
— Какая-то прямо-таки непонятная любовь.
Возле разговаривающих стоял старый мудрый метранпаж без имени, но с отчеством: Степаныч.
И сказал этот самый Степаныч:
— А я этого ожидал.
— Чего именно?
— Вот этого. Как сказал он: «люблю печать». Ну, думаю, значит — баста, съест.
— Да где же здесь логика?
— Логика простая: бывают же люди, которые любят устриц. «Люблю, говорит, устриц», и тут же съест их два-три десяточка. Всякая любовь бывает…
А в это время перед сановником сидел другой интервьюер и с лихорадочным любопытством спрашивал:
— Что вы любите больше всего, ваше пр-во?
Его пр-во сладко зажмурился, облизнулся и сказал без колебаний:
— Печать.
ДРАМА В ДОМЕ БУКИНЫХ
Есть много женщин, которым мало, если им просто говорят:
— Я люблю тебя.
По их мнению в этой фразе много пресного, монотонного, бескрасочного и недоговоренного.
Такие женщины любят, чтобы их ошеломляли чем-нибудь сильным, энергичным, вроде:
— Я люблю тебя больше жизни, больше солнца!
Или:
— Если бы мне нужно было пойти за тебя на плаху — я бы с радостью сложил за любимую свою буйную голову!
И соврет. Попробуйте ему не только голову — ногу отрубить во имя любимой — такой крик и стон подымет, что палач бросит топор, плюнет и пойдет по своим делам.
Один пакгаузный весовщик на ст. «Раздельная» говорил любимой девушке, нервно теребя зеленый с крапинками изрядно засаленный галстук:
— Прикажи только — для тебя всем буду — министром аль там каким генералом!
— А — правду сказать — если бы начальство сделало его даже помощником начальника станции — бедное сердце не выдержало бы этой радости и — разорвалось.
Слова не обязывают.
А если бы слова обязывали, то влюбленный, вместо сравнения с солнцем, вместо положения головы на плаху, говорил бы мирно, скромно, осторожно, без ненужной пышности:

Как отметить новогодние праздники так, чтобы потом весь год вспоминать о них с улыбкой? В этой книге вы точно найдёте пару-тройку превосходных идей! Например, как с помощью бутылки газировки победить в необычном состязании, или как сделать своими руками такой подарок маме, которому ужаснётся обрадуется вся семья, включая кота, или как занять первое место на конкурсе карнавальных костюмов. Эти и другие весёлые новогодние истории рассказали классики и современники — писатели Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Н.
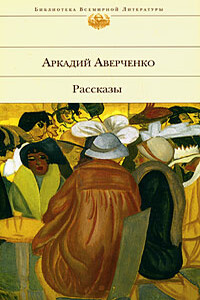
Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его современники, – обладал удивительной способностью воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая массу смешных положений, диалогов и импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже самого серьезного читателя.В книгу вошли рассказы, относящиеся к разным периодам творчества писателя, цикл «О маленьких – для больших», повесть «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев…», а также его последнее произведение – роман «Шутка мецената».

Жанр святочных рассказов был популярен в разных странах и во все времена. В России, например, даже в советские годы, во время гонений на Церковь, этот жанр продолжал жить. Трансформировавшись в «новогоднюю сказку», перейдя из книги в кино, он сохранял свою притягательность для взрослых и детей. В сборнике вы найдёте самые разные святочные рассказы — старинные и современные, созданные как российскими, так и зарубежными авторами… Но все их объединяет вера в то, что Христос рождающийся приносит в мир Свет, радость, чудо…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Среди мистификаций, созданных русской литературой XX века, «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (1910) по сей день занимает уникальное и никем не оспариваемое место: перед нами не просто исполинский капустник длиной во всю человеческую историю, а еще и почти единственный у нас образец черного юмора — особенно черного, если вспомнить, какое у этой «Истории» (и просто истории) в XX веке было продолжение. Книга, созданная великими сатириками своего времени — Тэффи, Аверченко, Дымовым и О. Л. д'Ором, — не переиздавалась три четверти века, а теперь изучается в начальной школе на уроках внеклассного чтения.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
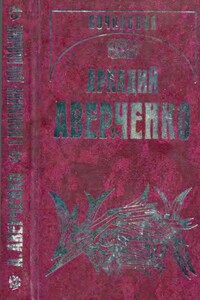
В шестой том сочинений А Аверченко вошли два его знаменитых сборника рассказов о детях: «О маленьких — для больших», «Шалуны и ротозеи», а также несколько других, известных сборников. Впервые спустя столетие публикуются «Свинцовые сухари» и еще три выпуска «Дешёвой юмористической библиотеки “Нового Сатирикона”.
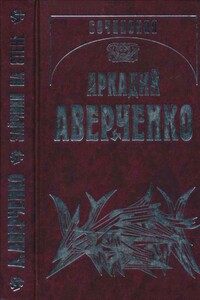
Во второй том собрания сочинений входят книги: «Зайчики на стене. Рассказы (юмористические) Книга вторая» (1910), «Рассказы (юмористические). Книга третья» (1911), «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев: Южакина, Сандерса, Мифасова и Крысакова», а также «Одесские рассказы» (сборник печатается полностью впервые спустя век после первой публикации).