Том 3. Проза. Литературная критика - [231]
К 1908 году, когда монополией на «идеализм» овладело второе поколение символистов (т.е. собственно символисты), начало определяться новое течение, поставившее во главу угла «слово» по терминологии Брюсова. В этой школе происходил процесс замены иносказания в троп, символа в метафору, что означало перенесение философского метода на стилистический прием.
Течение это назвало себя русским футуризмом (я разумею группу Хлебникова-Маяковского), которому, собственно, следовало бы называться формизмом. Каковы бы ни были его идейные тенденции, основным признаком его была не тема (русский дадаизм был мертворожден и краткосрочен), но чисто стилистические задачи. Даже Маяковский Лефа и Росты, отошедший от Хлебниковского принципа, «наступивший на горло своей песни», строил свою поэтику на приеме (см. его лекцию-статью «Как делать стихи»), - гротеске, гиперболе и каламбуре. Отсюда и вся левизна футуризма, и близость его представителей к большевикам была чистым недоразумением, разрешившимся в конце концов в официально объявленных гонениях на «формализм» и «трюкачество».
Объясняется это запутанностью истории русского футуризма. Футуризм без особого основания считался в революционное время крайне левым революционным течением. Маяковский богохульствовал и поносил буржуев на своих публичных «лекциях». Из футуризма после революции возник Леф, «социальный заказ». Молодая советская поэзия выросла на Хлебникове и Маяковском. Ученик Маяковского, чистый стилист Пастернак имел все внешние возможности продолжать свои «соловьиные трели» в самые фантастические годы военного коммунизма. С футуризмом у обывателя было связано представление о какой-то абракадабре. Непонятно, но потому непонятно, что разрушает устои старого. Большевикам же все разрушители устоев вначале были с руки.
Но в действительности под абракадаброй футуризма таился далеко не чистый литературный анархизм. По существу своему футуризм был прямым наследником того философски-религиозного переворота, который принес столь пышное цветение русской литературы в начале текущего столетия. С переворотом этим права получили силы мистические, сверх- и под-сознательные, которые как раз гнали и ненавидели с фанатичною последовательностью наши Базаровы, - «реалисты» и материалисты прежде всего. Футуризм стал углублением в область сугубо под-сознательного. Было тут немало и от фрейдизма. Недаром Хлебников так интересовался словотворчеством детей, недаром в стихах процветал «заумный язык», которому поэты учились у мистических сектантов. Не случайно и в результате русского футуризма остался стилистический прием в виде метафорического языка, главным представителем которого должно признать Бориса Пастернака. Подобным образом закончился и французский сюрреализм, расцветший открыто на почве фрейдизма (таким образом, русский футуризм можно считать предвосхищением сюрреализма на целых десять лет: первый сборник футуристический «Садок судей» вышел в 1908 году).
Пастернак наследник футуризма, поэт-стилист, пожинатель плодов на ниве, которую возделывали Хлебников и Маяковский. У них он унаследовал прием, в основе враждебный Базаровым и прежнего и нового века. То, что было скрыто под сложностью этого приема, затемнявшего и зашифровывающего смысл, было просто бытовой, описательной поэзией[756].
С объявлением войны «формализму» советский критик В. Александров в «Литературном критике» (статья «Частная жизнь») попытался показать эту мещанскую подоплеку поэзии Пастернака (кн. 3, 1937 г.; стр.55-81).
Александров подходит к поэту во всеоружии формалистической критики. Он обличает тайны его сложного стиля, добывая из-под слоя сложнейших метафор и иносказаний то, что ему нужно доказать. По ассоциациям Пастернака критик добирается до его интимного мира, в котором находит «мещанина», занятого своей частной жизнью в годы «великого совета». От какой-нибудь дождевой капли, тяжесть которой поэт сравнил с тяжестью запонок, от пыли, которая «глотает дождь в пилюлях», от палисадника, растерявшего в солнечный день «по траве очки», - критик делает заключение, что для Пастeрнака весь мир сошелся на его комнате. Даже выйдя в сад, он видит кругом предметы своего мещанского обихода: запонки, пилюли, очки...
Для рапорта кому следует о неблагонадежности Пастернака (которому и замолчать нельзя, раз он «взят на учет») этого достаточно. Но для нас пожалуй что - нет. Дело в том, что «метафорический» стиль, завершенный в русской поэзии Пастернаком, сам в себе, вне содержания, как форма, представляет собою целую проблему. Проблему, где вопросы искусства сочетаются с вопросами метафизическими.
Я берусь утверждать, что именно им, этим стилем, намечено было правильное разрешение задачи символистов-«идеалистов» - касание мирам иным.
Возьмем хотя бы А. Белого, из всех теоретиков «идеалистического» символизма едва ли не самого сильного. Теория его, однако, на практике разбивалась о косную форму. Несмотря на философские темы, магические знаки, мистическую двупланность в изображении мира, ему так и не удалось передать веяние потустороннего. Не удалось не потому, что он был недостаточно гениален, но потому только, что в руках его был материал, не соответствовавший заданию: философическая отвлеченная речь. Чем выше подымался он над землей, тем и речь эта становилась отвлеченнее, бледнее. Художественное слово действует на воображение образом, а образ перед без-образным остается бессилен.

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде остававшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.
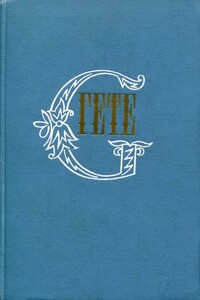
Гете писал: «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи — это подлинный краеугольный камень всех понятий об искусстве. Это единственная в своем роде картина, с ней нельзя ничего сравнить».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
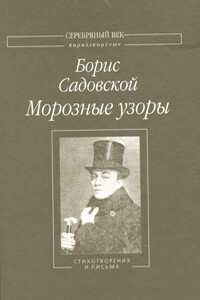
Борис Садовской (1881-1952) — заметная фигура в истории литературы Серебряного века. До революции у него вышло 12 книг — поэзии, прозы, критических и полемических статей, исследовательских работ о русских поэтах. После 20-х гг. писательская судьба покрыта завесой. От расправы его уберегло забвение: никто не подозревал, что поэт жив.Настоящее издание включает в себя более 400 стихотворения, публикуются несобранные и неизданные стихи из частных архивов и дореволюционной периодики. Большой интерес представляют страницы биографии Садовского, впервые воссозданные на материале архива О.Г Шереметевой.В электронной версии дополнительно присутствуют стихотворения по непонятным причинам не вошедшие в данное бумажное издание.

Николай Николаевич Минаев (1895–1967) – артист балета, политический преступник, виртуозный лирический поэт – за всю жизнь увидел напечатанными немногим более пятидесяти собственных стихотворений, что составляет меньше пяти процентов от чудом сохранившегося в архиве корпуса его текстов. Настоящая книга представляет читателю практически полный свод его лирики, снабженный подробными комментариями, где впервые – после десятилетий забвения – реконструируются эпизоды биографии самого Минаева и лиц из его ближайшего литературного окружения.Общая редакция, составление, подготовка текста, биографический очерк и комментарии: А.
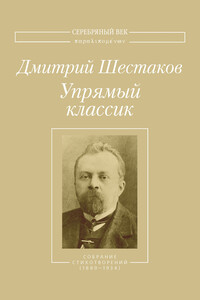
Дмитрий Петрович Шестаков (1869–1937) при жизни был известен как филолог-классик, переводчик и критик, хотя его первые поэтические опыты одобрил А. А. Фет. В книге с возможной полнотой собрано его оригинальное поэтическое наследие, включая наиболее значительную часть – стихотворения 1925–1934 гг., опубликованные лишь через много десятилетий после смерти автора. В основу издания легли материалы из РГБ и РГАЛИ. Около 200 стихотворений печатаются впервые.Составление и послесловие В. Э. Молодякова.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.