Тит Беренику не любил - [44]
— Говорят, нынче утром землекопы в Тюильри приняли вас за безумца, который собирался утопиться в пруду. Смотрите поосторожнее, — говорит Никола.
Но Жану все равно. Он даже и не прочь прослыть помешанным, опасным сумасбродом, каким подчас он сам себе снится: воякой в королевских доспехах, который всаживает шпагу в живот сначала старому Корнелю, а потом его младшему брату и вынимает окровавленный клинок. Бывает, по ночам он разражается столь яркими самозабвенными гипотипозами, что, по словам Мари, мог бы соперничать с великими актерами, хоть бы и с ней самой.
Уж как злил Жана Буало своими бесконечными попреками, но стоило тому сказать однажды, что он не знает ничего прекрасней, чем начало Книги Бытия, как Жан его простил. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Да явится суша. И стало так». В такие минуты Жан видит, что их дружбу скрепляет не только расчет и взаимная выгода, но и общая глубинная страсть к простому слогу. Это она толкает Никола безжалостно потрошить его строки. И не только его, он судит и Гомера с Еврипидом, выпевая скрипучим голоском: «Слишком вычурный перифраз» — или: «А вот тут превосходно — стремительно, живо». Жан фыркает, но жадно слушает — ему и самому понятно, что в двух его последних пьесах чего-то недостает. В них уже нет того величия, что было в «Беренике», безумия, как у Ореста или Гермионы. Он потерял кураж, герои стали пресными, он умеряет скорбь Монимы и неистовство Роксаны и слишком потакает моде и славе.
— Придирайтесь побольше к моим стихам, не прекращайте разбирать их по косточкам и всегда говорите мне, если они звучат высокопарно или пустопорожне, — просит он Никола.
— Обещаю, — отвечает тот. — И кстати, я тут бьюсь над строчкой Еврипида. Не поможете мне?
— Буду рад.
— Я перевел ее так: «Зловещих этих змей кому грозит шипенье?»[59] Что скажете?
Жану смешно — Никола взял это у него самого. Писатели грабят друг друга — такое случается. Друг добродушно соглашается и добавляет: не будь этих краж, некоторые авторы канули бы в забвение, вроде того, которого он нынче переводит: о нем почти ничего не известно и все его другие сочинения утеряны.
— Пройдет несколько веков, — подхватывает Жан, — и мы с вами тоже превратимся в безвестных, чуть ли не безымянных писателей, и наши слова затеряются в дебрях времен. Что был ты на свете, что не был — какая, в сущности, разница? Так стоит ли стараться?
Никола помрачнел. Жан спохватился и, чтобы утешить друга, дорисовывает перспективу: в дебрях времен наверняка будет найден след его жизни — мраморный бюст, пусть и с отбитым носом.
Он ждет.
Конечно, лучше бы чествовали его одного, но изменить королевский приказ не удалось. С ним вместе в Академию будут принимать еще двух новых членов, хотя всех троих почтительно разместили по разным комнатам.
Пронзительный студеный ветер обдувает его изнутри, леденит его кровь, заставляет сжиматься все органы и колышет перья, украшающие платье и шляпу. Сейчас за ним придут, и он станет бессмертным. Слово нисколько его не коробит. Наоборот — он счастлив. Теперь не важно, будет ли вечно жить его душа, раз не умрут его стихи. Ему вспоминается тетушка и все другие, предрекавшие, что он не обретет спасения. Пусть же посмотрят, чего он достиг.
До прошлого года заседания Академии были закрыты для публики, но Кольбер и король пожелали прибавить им пышности. Удача для Жана. Он пригласил друзей, маркиза и кузенов — словом, всех, кроме Мари, поскольку женщины туда не допускались. Это главнейший день его жизни. Величайшее крещение. Он целый месяц готовился, придумывал речь, составлял программу торжеств.
Избрали его сразу, и немудрено — он научился мастерски подавлять в зародыше интриги или же оборачивать их себе на пользу. Его кандидатуру поддержал король. Лишь пять из двадцати шести голосов были против. А Корнель прошел только с третьего раза. Приземистый старик, он тоже заседает в бывшем зале Королевского совета. Тот, кто вчера науськивал партер, сегодня, как и все другие академики, любезно встретит Жана, будет вымучивать улыбки, скрывающие злобу, зависть, страх. У Жана к Корнелю осталась только дремлющая неприязнь, если она и просыпалась, то разве когда он слышал, что старый драматург задумал нечто многообещающее.
Зовут. Он входит вслед за провожатым в просторный зал. На дальнем конце стола сидит президиум, по обе стороны — все члены Академии, на ближнем — пустое кресло, в которое он сядет рядом с двумя другими новоиспеченными бессмертными. Видно, король решил, что он достойней завершит эту троицу, чем ученый или священник[60]. Или наоборот… Нет, это невозможно, Жан уверен: король не может так подумать о себе, а значит, и обо мне.
Свою речь он показал не только Никола, но, по такому случаю, еще и Лафонтену. В глазах у обоих читалась зависть вперемешку со старательным доброжелательством, так бывает, когда другие получают то, чего хотелось бы и нам: мы ревнуем, но стремимся заглушить ощущение несправедливости радостью за ближнего.
И вот настало время торжественных речей. Жан встречается взглядом с маркизом. Чуть улыбается и вспоминает детские проказы лунными ночами. Он полон сложных чувств: видеть тут сразу всех своих старых друзей очень приятно, но неприятно думать, что они знавали его в самое черное время — бедным заброшенным сиротой, а что касается маркиза — еще и неоднократно униженным. Небось теперь, когда он стал академиком, никто уж не осмелится сжечь то, что ему дорого. От этих навязчивых мыслей его отвлекает и возвращает ему душевное спокойствие прочитанная вслух двадцать четвертая статья устава. Он знает ее наизусть.
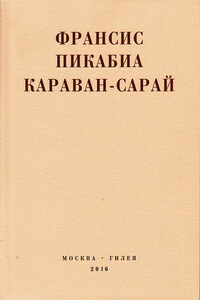
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.

В системе исправительно-трудовых учреждений Советская власть повседневно ведет гуманную, бескорыстную, связанную с огромными трудностями всестороннюю педагогическую работу по перевоспитанию недавних убийц, грабителей, воров, по возвращению их в ряды, честных советских тружеников. К сожалению, эта малоизвестная область благороднейшей социально-преобразовательной деятельности Советской власти не получила достаточно широкого отображения в нашей художественной литературе. Предлагаемая вниманию читателей книга «Незримый поединок» в какой-то мере восполняет этот пробел.

У той, что за стеклом - мои глаза. Безумные, насмешливые, горящие живым огнем, а в другой миг - непроницаемые, как черное стекло. Я смотрю, а за моей спиной трепещут тени.

Мать и маленький сын. «Неполная семья». Может ли жизнь в такой семье быть по-настоящему полной и счастливой? Да, может. Она может быть удивительной, почти сказочной – если не замыкаться на своих невзгодах, если душа матери открыта миру так же, как душа ребенка…В книге множество сюжетных линий, она многомерна и поэтична. «Наши зимы и лета…» открывают глаза на самоценность каждого мгновения жизни.Книга адресована родителям, психологам и самому широкому кругу читателей – всем, кому интересен мир детской души и кто сам был рёбенком…