Тит Беренику не любил - [17]
— Ну и что?
— Не понимаете, к чему я клоню?
— Нет, — сухо отвечает Жан. — В 1608-м, пораженная проповедью бродячего монаха-францисканца, она окончательно обращается к Богу.
— А мне рассказывали об этой проповеди другое. Ну да ладно. 25 сентября 1609 года ее отец и мать направляются в аббатство. Их карета въезжает во двор в одиннадцать часов, когда все монахини в трапезной. Но с раннего утра всё на замке. Отец стучится в дверь, на стук выходит сама Жаклина. Она открывает окошко в двери и предлагает отцу зайти в маленькую комнату свиданий и поговорить с ней через решетку. Отец выходит из себя, распаляется все больше, но Жаклина стоит на своем. Родители честят ее неблагодарной, она убьет отца! Крик стоит на всю обитель, сбегаются всполошенные монахини. Отец набрасывается и на них, дескать, его оскорбляют. Жаклина прислоняется к окошку головой, чтобы не упасть в обморок. Родители уедут под вечер, в аббатство их так и не пустят. Вот и все, я закончил.
Маркиз садится, ждет ответа:
— Ну, что вы об этом думаете?
Жан ошарашен. Нечем дышать — вокруг ни ветерка. Теперь и он встает и принимается ходить по кругу, растерянный, угрюмый.
— Скажите же хоть что-нибудь!
— Все это гнусные выдумки. Сами знаете, таким вещам доверять нельзя. Особенно сейчас.
— Вы возмущаетесь только потому, что услышали это от меня. Будь на моем месте ваш кузен…
— Кузен бы никогда такого не сказал! Пошли обратно.
— Но это останется в тайне?
— Пойдемте!
Рассказ маркиза возбудил в Жане множество мыслей, которые он пытался скомкать и запихнуть на дно сознания. Но они все равно разбухали. Он молча взбежал по ста ступенькам, пока маркиз скакал где-то сзади. Правда ли, что мать-основательница построила свой монастырь на банальной личной боли? Но разве боль банальна? И не она ли — верная дорога к вере? При каждом его шаге в толще камня раздается потаенный гул, будто пучина яда задышала под слоем меда. Интересно, маркиз тоже слышит?
Ночью Жану не спится. Он машинально водит пальцем по корешкам доверенных ему книг и нащупывает один полотняный, помягче других. Вытаскивает находку из стопки. Это рукописная тетрадь. Верно, учитель нечаянно оставил ее тут. Жан не сразу решается прочитать. Это разрозненные мысли, отрывки греческих или латинских переводов, комментарии, каких Жан никогда не слышал от учителя: «Буквальный перевод — это тело без души, да и вообще тело и душа говорят на разных языках». Или: «Слишком большая точность приводит к тому, что мертвого путают с живым». Учитель пишет резко, такого Жан за ним не знал. Он подносит свечу к тетради, читает и перечитывает вновь. Учитель говорит о языках, как о людях со своими сложными характерами, к которым нужно приноравливаться. И неустанно восхваляет их достоинства, их красоту. Жан все медленнее переворачивает страницы. Абзацы становятся длиннее и длиннее, дело доходит до сплошного текста, превосходящего длиной все прочие отрывки. Да это песнь о Дидоне, в изумлении думает Жан. Французские слова теснятся, выстраиваются лесенкой над зачеркнутыми местами. Один и тот же стих переводится дважды и трижды, по-разному. Жан читает их вслух, но ни один ему не нравится. Слишком длинные фразы, нарочитые сочленения. Он достает собственные, запрятанные в ящик стола тетради, куда еще в коллеже Бовэ записывал переводы, и сравнивает их, строку за строкой, с учительскими. Свои ему кажутся лучше. «Трижды приподнимаясь, она опиралась на локоть, привставала с трудом, трижды падала снова на ложе, блуждающим взором искала проблеск света на своде небесном и застонала, найдя», — читает он и думает: «Красиво, но напыщенно, не чувствуется плоть напряженной руки, нет движения». Он хватает перо и пишет поверх слов учителя: «Трижды старалась она приподняться, наконец, опираясь на локоть, привстала, трижды валилась на ложе, шарила по небосводу неистовым взором, проблеск света искала, нашла наконец и тогда застонала». Но тут же судорожно все вымарывает: «Какое я имею право!» Отбрасывает в сторону перо, но минуту спустя видит ниже еще один перевод. И узнает каждое слово, как будто написал это сам, да так оно и есть — он сам и написал. Показал эти строчки учителю, а тот перед всем классом безжалостно отверг их. Жан проявил неуважение к учителю, а тот — к нему, ученику. В смятении Жан вскакивает, нервно мечется по спальне. Потом опять усаживается за стол, дальше листает тетрадь и доходит до последнего, очень верного, замечания: «Если перенести в перевод присущую латыни и a fortiori[34] греческому краткость, он станет невнятным. Стало быть, можно его удлинять, но важнее всего найти меру». Жан вновь берет перо и прилежно переписывает эту мысль в свою тетрадь. По крайней мере, во всей этой смуте он нашел хоть какое-то правило. «По сути, мы ведь с ним согласны», — думает он. Задувает свечу, закрывает глаза, но веки его еще долго подергиваются после такого потрясения.
Что-то изменилось между ним и маркизом, как будто в их разговорах теперь участвовала мать Анжелика, но не та, что строго смотрела на них с портрета в трапезной, а девочка лет шестнадцати, в которую она вдруг превратилась. За ужином оба поглядывали на портрет и, встречаясь взглядами друг с другом, обменивались легкой усмешкой. Всего лишь.

Настоящее издание представляет собой первую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, специалистами в области национальных литератур. В издание вошли отрывки переводов из произведений ведущих английских, французских, американских, итальянских и немецких авторов эпохи Просвещения, позволяющие показать специфику литературного процесса XVIII века.
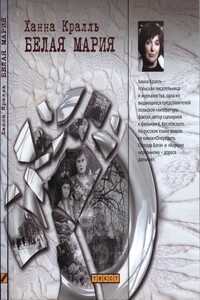
Ханна Кралль (р. 1935) — писательница и журналистка, одна из самых выдающихся представителей польской «литературы факта» и блестящий репортер. В книге «Белая Мария» мир разъят, и читателю предлагается самому сложить его из фрагментов, в которых переплетены рассказы о поляках, евреях, немцах, русских в годы Второй мировой войны, до и после нее, истории о жертвах и палачах, о переселениях, доносах, убийствах — и, с другой стороны, о бескорыстии, доброжелательности, способности рисковать своей жизнью ради спасения других.
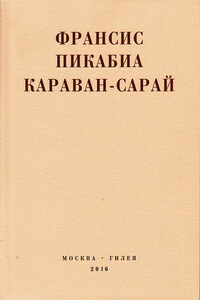
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

Судьба была не очень благосклонна к маленькому Цедрику. Он рано потерял отца, а дед от него отказался. Но однажды он получает известие, что его ждёт огромное наследство в Англии: графский титул и богатейшие имения. И тогда его жизнь круто меняется.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.