Тит Беренику не любил - [15]
— Хорошо, я уйду, но обещайте, что завтра прочитаете мне свою оду быку!
Несколько часов подряд Жан скребет пером, зачеркивает и опять пытается вообразить, хоть это и нелепо, что будет, если в их аббатство забредет огромный разъяренный бык. Но ничего хорошего в голову не приходит. Наутро он не решается посмотреть в глаза маркизу. Так проходят три дня.
Наконец, после четырех бессонных ночей, у него что-то получилось. После обеда он подзывает маркиза и нетвердым голосом читает:
— Ужасно! — говорит маркиз. — Птички и те были лучше! Вам не хватает действия.
— Надоели вы мне, — отмахивается Жан. — Попробуйте сами!
— Вы бы хотели, чтобы я, как вы, заделался поэтом?
— О нет!
— Наверное, идея с быком была неудачной, предмет слишком груб.
Жана эти слова утешают. Но в тот же вечер на другой странице «Георгик» ему попадаются строки:
И он понимает: Вергилий нисколько не груб. И решает отныне не показывать оды маркизу, а приберегать их для писем кузену. Это не значит, что они с кузеном не будут больше изощряться в искусстве беседы — ведь тут от Жана требуется не просто отвечать на вопросы, но подбирать и расставлять слова, как будто это стрелы, способные жестоко ранить, но, если их чередовать и выпускать умело, становящиеся безобидней легких пузырей. Все чаще в письмах кузена мелькают галантные имена, которые присваиваются парижским дамам, говорится о вкусе света к острословию и пасторалям. Рассказывается о домах, где мужчины с женщинами вместе засиживаются и пируют до глубокой ночи и где никто ни разу не помянет Господа. О столичных улочках, салонах и особняках. Мало-помалу Жан пытается вставлять все это в собственные тайные сочинения. И иной раз ему приходится внезапно выходить из класса — так сильно кружится голова.
— Что с вами? — беспокоится Амон.
— Не знаю, может, это оттого, что я слишком много рифмую.
— Так все и говорят о вас. Послушайте своих учителей, возвращайтесь к строгому, логичному мышлению.
— Я хотел бы поехать жить в Париж.
Лекарь рукой упирается в стену.
— Сначала тяготишься каким-то местом, а там уж и дела становятся в тягость, — говорит он. — Живите в Боге.
И, капнув на влажную тряпицу какой-то пахучей жидкости, склоняется и прикладывает ее ко лбу Жана.
— Меня частенько тянет удалиться в молитвенный затвор, более строгий, чем здесь.
Жан помрачнел. Без Амона он пропадет. Он обидел учителя и пытался, закрыв глаза, понять его боль, сопоставив ее со своею. Но раскаяние не прибавило сочувствия к лекарю. Впервые за все время Жан увидел его просто-напросто иссохшим стариком, который ест только хлеб из отрубей — корм для собак — и пьет только воду, а все, что полагается ему, отдает беднякам. Пусть идет куда хочет: хоть к траппистам, хоть к черту! А он, Жан, поедет в Париж. Амон его злости не чувствует. И еще минуту держит руку с растопыренными, чуть дрожащими пальцами над его лицом.
— Если позволите, я вам кое-что расскажу.
Жана мутит от его кислого дыхания, он еле сдерживает тошноту.
— Когда я был маленький, в доме, где я жил, обрушилась крыша и все раздавила. Мне было всего пять лет, но с тех пор не проходит и дня, чтобы у меня перед глазами не возникали эти образы: моя разбитая кровать и прочее. Вокруг меня были одни руины, и сам я должен был погибнуть. Но уцелел по воле Господа. И жить могу только в Боге. Но главное не это. Главное — если бы я тогда умер, то умер бы в грехе.
— Как? Почему?
— Беда стряслась в Богоявление, а накануне я предавался обжорству.
— А-а! — Жан потрясен.
В рассказах Амона ему больше всего всегда нравились метаморфозы, настигающие людей. Как в мифах. Как в случае с Данаей и золотым дождем. Вот и сейчас ему уже представилось, как у худощавого Амона внезапно отрастает жирное брюхо.
— Но Бог меня пощадил. Я мог бы рассказать вам множество других историй.
— Знаю-знаю. Например, про святое терние, но эту я от вас уже слышал давно.
— Не дерзите!
— Прощу прощения.
В его собственной жизни Провидение никак себя не проявляло. С ним не случалось никаких метаморфоз, и Бога он пока не нашел. Он хочет ускользнуть от пронзительных черных Амоновых глаз и вдруг где-то слева натыкается взглядом на клубок шерсти с деревянными спицами. Чье это может быть добро?
— Тут еще кто-то есть?
— О чем это вы? — Амон сбит с толку.
— Я вон про то вязанье…
— Это единственный способ занять руки, оставляя свободным ум. Я вяжу и продолжаю, не отвлекаясь, читать Священное Писание.
— И что вы потом делаете с вещами, которые связали?
Но вопрос не в этом!
Жан снова закрывает глаза — пытается прогнать нелепую картинку. Действительно, не важно знать, как там Амон раздает беднякам плоды своих трудов, важно другое: понять, как может человек жить в подобном разладе с собой. У Жана, когда он пишет, руки и глаза, по крайней мере, действуют согласно. А тут… под сомкнутыми веками упрямо вырисовывается одно и то же: лекарь сидит, согнувшись над своим вязаньем, позвякивают спицы, мелькает грубая шерстяная нить, а глаза его не видят то, что делают руки. Все в Жане противится этому зрелищу: его бедный учитель, похожий одеянием на крестьянку, жмурится, предаваясь грезам о Божьем промысле. Он вскакивает и со всех ног бежит прочь. А вечером, когда маркиз стучится в дверь, он замирает и не отзывается, как будто его нет, — весь мир ему противен.

Настоящее издание представляет собой первую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, специалистами в области национальных литератур. В издание вошли отрывки переводов из произведений ведущих английских, французских, американских, итальянских и немецких авторов эпохи Просвещения, позволяющие показать специфику литературного процесса XVIII века.
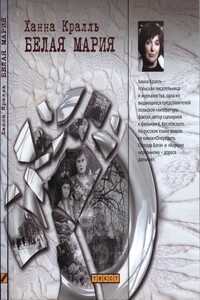
Ханна Кралль (р. 1935) — писательница и журналистка, одна из самых выдающихся представителей польской «литературы факта» и блестящий репортер. В книге «Белая Мария» мир разъят, и читателю предлагается самому сложить его из фрагментов, в которых переплетены рассказы о поляках, евреях, немцах, русских в годы Второй мировой войны, до и после нее, истории о жертвах и палачах, о переселениях, доносах, убийствах — и, с другой стороны, о бескорыстии, доброжелательности, способности рисковать своей жизнью ради спасения других.
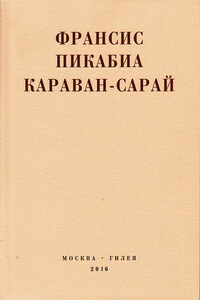
Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

Судьба была не очень благосклонна к маленькому Цедрику. Он рано потерял отца, а дед от него отказался. Но однажды он получает известие, что его ждёт огромное наследство в Англии: графский титул и богатейшие имения. И тогда его жизнь круто меняется.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.