Теология тела - [5]
Адамический миф антропологичен. Адам означает «Человек». Но не каждый миф о «первоначальном человеке» является «адамическим», который один, действительно, антропологический. Обозначим три его особенности:
— этиологический миф касается происхождения зла в прародителе человечества, чьё состояние единообразно с нашим…
— этиологический миф есть самая экстремальная попытка определить происхождение добра и зла. Цель этого мифа — установить, что происхождение зла радикально отличается от изначального источника благости вещей.
Миф в имени Адам, что значит «человек», четко показывает универсальный характер человеческого зла; дух покаяния дан в адамическом мифе как символ этой универсальности. Таким образом, мы снова находим. универсализирующую функцию универсализации мифа. Но, в то же время, мы находим две другие функции, в равной степени вызванные опытом покаяния. Протоисторический миф, таким образом, служит не только для того, чтобы сделать опыт Израиля общим для всех времен и народов, но распространить на всё человечество огромное напряжение осуждения и милосердия, которые пророки учили Израиль разглядеть в его собственной судьбе.
Наконец, последняя функция мифа, которая находит мотив в вере Израиля: миф даёт пространство для предложений в изучении точки, в которой встречаются онтологическая и историческая части (P. Ricoeur, Finitude et culpabilite: Il Symbolique du mal [Paris: Aubier, 1960], pp. 218–227).
(2) Что касается этимологии, не исключено, что этот термин на иврите является производным от корня, означающего «сила» (ish или wsh), в то время как слово ishshah связано с рядом семитских терминов, значение которых варьируется от «женщины» до «жены».
Этимология, предложенная библейским текстом, распространена и служит, чтобы подчеркнуть единство происхождения мужчины и женщины. Это подтверждается тем, как перекликаются эти два термина.
(3) «Сам религиозный язык призывает к транспонированию из «образов» или, скорее, «символических форм» в «концептуальные «формы» выражения.
На первый взгляд это транспонирование может показаться чисто внешним изменением. Символического языка, кажется, недостаточно, чтобы ввести концепцию причины, которая свойственная западной культуре. В этой культуре религиозный язык всегда был обусловлен другим языком, философским, который преимущественно концептуален. Если это правда, что религиозная лексика понимается только в общине, которая интерпретирует её и в соответствии с некоей традицией, верно также и то, что не существует традиции интерпретации, не «опосредованной» какой-то философской концепцией.
Таким образом, слово «Бог», получающее в библейских текстах свой смысл от сочетания различных видов дискурса, — рассказов, пророчеств, законодательных документов и поучений, пословиц и гимнов — должно было быть поглощено концептуальным пространством, чтобы быть переосмысленным с точки зрения философского Абсолюта, как Перводвигатель, Первопричина, Actus Essendi, совершенное Бытие и т. д.
Поэтому наша концепция Бога относится к онто-теологии, в которой освоено всё созвездие терминов богословской семантики, но в рамках значений, диктуемых метафизикой» (P. Ricoeur, Ermeneuticabiblica [Brescia: Morcelliana, 1978], pp. 140–141; originaltitle, Biblical Hermeneutics [Montana: 1975]).
Выражает ли метафизическое сокращение то содержание, которое таит в себе символический и метафорический язык, — это другой вопрос.
Катехеза IV. Граница между изначальной невинностью и искуплением
1. Отвечая на вопрос о единстве и неразрывности брака, Христос цитирует то, что написано о браке в книге Бытия. В двух предыдущих размышлениях мы проанализировали так называемый «элоистский» текст (Быт 1) и «яхвистский» (Быт 2). Сегодня мы хотим сделать некоторые выводы из этого анализа.
Упоминая «начало», Христос просит собеседников выйти за пределы границы, которая проходит в книге Бытия между состоянием изначальной невинности и греховности, которая возникает после грехопадения.
Символически эта граница может быть связана с древом познания добра и зла, которое в «яхвистском» тексте разграничивает две диаметрально противоположные ситуации: ситуацию изначальной невинности и первородного греха. Эти ситуации имеют определенное измерение в человеке, в его внутреннем мире, знаниях, совести, выборе и принятии решений. Всё это соотносится с Творцом, Который в «яхвистском» тексте также является Богом завета, древнейшего завета Творца с его творением — человеком.
Как символ разрыва завета между Богом и человеком древо познания добра и зла разграничивает и противопоставляет состояние изначальной невинности и состояние первородного греха и, в то же время, наследственной человеческой греховности, вытекающей из последнего. Тем не менее, слова Христа, отсылающие нас к «началу», позволяют найти в человеке важную преемственность и связь между этими двумя различными состояниями человеческого бытия.
Состояние греха является частью «исторического человека», как того, который задаёт Христу вопрос в Евангелии от Матфея, так и любого другого, задающего этот вопрос, во все времена, а потому естественно и для современного человека. Это состояние пустило корни в человеческой теологической «предыстории», которой является состояние изначальной невинности.

Поэзия Святого Отца Яна Павла ІІ — это своеобразный «поэтический катехизис», в котором автор вдохновенно говорит про Творца и человека, «вписанного в Божье дело спасения».Стихи Кароля Войтылы создавались в начале его пути священника. «Римский триптих» написан в 2002 г. Папой Яном Павлом ІІ. В этом произведении счастливо соединились богатый опыт теолога и особенная образность человека, влюблённого в цараство света и истинное искусство.
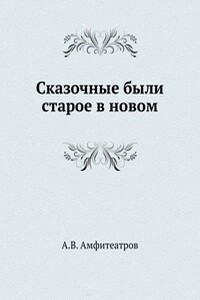
Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.
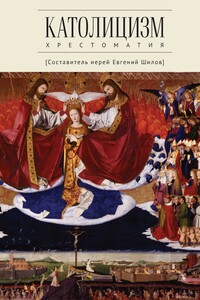
«Католицизм. Хрестоматия по предмету „Сравнительное богословие“» представляет собой собрание ключевых текстов по предмету «История западных исповеданий и сравнительное богословие», который изучается в высших духовных школах Русской Православной Церкви. В ней представлены как официальные документы, отражающие различные аспекты догматического учения Римо-Католической Церкви, так и полемические сочинения православных авторов. Представлены как уже ранее переведенные на русский язык тексты, так и новые, выполненные составителем. Книга предназначена для богословов, историков Церкви, преподавателей и студентов духовных школ и теологических факультетов, а также для всех интересующихся богословской проблематикой.
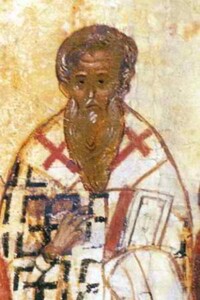
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу этой книги положены беседы кардинала Люстиже, архиепископа Парижа, прозвучавшие на Радио Нотр-Дам. Она появилась в ответ на пожелания тех, кто хотел бы иметь напечатанный текст этих бесед для размышлений.Кардинал Люстиже (1926–2007) — один из самых видных современных иерархов Римско-Католической Церкви. Выходец из семьи французских евреев (его мать погибла в Освенциме), он на пороге юности обратился в христианство, приняв в крещении христианское имя Жан-Мари в дополнение к своему еврейскому Аарон и решил всецело посвятить себя церковному служению.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В доступной форме, известный священник, просветитель, о. Станислав Тышкевич излагает основы уверенности католиков в главенстве Папы, как преемника апостола Петра.