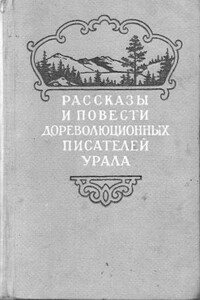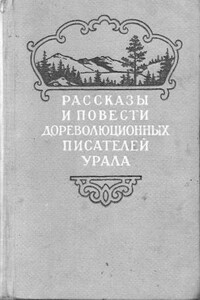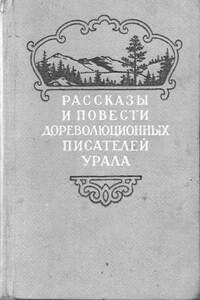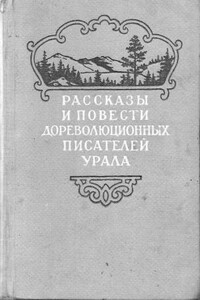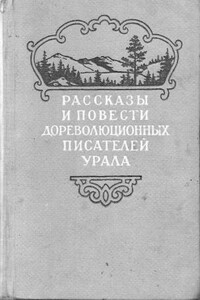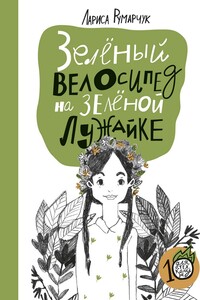Но только что Таня завозилась с ружьем, отыскивая пистоны, как медведь снова появился в окошке, еще дальше просунув голову, так и ломится в избушку. Но тут уж в его белую громадную голову полетела целая головешка. Крякнул он, помотал головой перед окошечком и опять полез на крышу. Нашел там опять что-то, снова сполз вниз и ест недалеко от избушки. Высунулась Таня в сени, видит — нет его там, захлопнула поскорее сенные двери и стала смотреть на двор. Видит — медведь недалеко, гложет тюленьи шкуры, только клочья летят.
Тут ей страшно захотелось выстрелить в зверя. Просунула она в щель ствол винтовки, прицелилась, выстрелила и убежала в избу… Слушают, выглядывают в оконце, — ничего не видно. Приотворила Таня двери в сени, выглянула на двор, а медведь как ни в чем не бывало рвет да ест тюленьи шкуры. Ухватится лапами за один конец шкуры, прижмет к снегу, возьмется зубами за другой да так и отдирает, а сам все посматривает на избу, нельзя ли туда зайти и съесть ребятишек.
Таня бросилась в избу, опять зарядила пулей винтовку и пошла в сени стрелять медведя… А он как раз уже стоит перед самыми дверями и пробует их отворить лапой… Выстрелила она в него в упор, не помня себя, убежала в избу и держит ручку дверей, думая, что медведь бросится за нею… Но в сенях ничего не слышно.
Затихли все. Прислушиваются… Проходит так несколько минут и зверя как будто не стало. Зарядила Таня еще раз винтовку, выглянула в сени, а медведь лежит у самых дверей мертвый.
Долго они не смели подойти к подстреленному зверю. Долго он еще вздрагивал, ворочался, скреб широкими, мохнатыми лапами снег, но, наконец, совсем затих. Только теперь прибежали собаки и, набравшись храбрости, стали лаять на убитого медведя, потом набросились на него и начали его грызть, теребить за уши. Но тут, видно, поняли псы, что с мертвым воевать не стоит, бросили его и стали подлизывать кровь, которая лилась из раны на снег.
Ребятишки так перепугались белого гостя, что не только выйти, не смели даже взглянуть в сени. А Таня ликовала; она с гордостью в сотый раз обходила кругом зверя, пробовала поднять его мохнатую широкую лапу, пробовала стащить его с места, так как он как раз лежал у самых дверей; но зверь был так велик и так тяжел, что им и с матерью вместе не удалось стащить медведя с места.
Сам Логай, когда вечером воротился с сыном, даже глазам не верил, когда увидал, что белый медведь лежит в сенях у самых дверей избушки.
С этих пор Таня стала настоящей охотницей. Медвежью шкуру продали и купили Тане бус, платков, ленточек, в которых она теперь франтила перед нами, а отец ей даже подарил свое старое ружье. С этих пор ее стали часто брать на море, где она охотилась не хуже брата, обдирала тюленей, ловко ездила на промысловой лодочке, лихо стреляла, соперничая со своим старшим братом в меткости стрельбы.
Но еще раньше в Тане заметна была страсть к охоте. Отец рассказывал, что она совсем еще маленькой девочкой уже обнаруживала некоторое пристрастие к ней.
Бывало, как только отец возьмется налаживать ружье, она уж тут как тут, сидит рядом, смотрит, как он заряжает или починивает, и расспрашивает, куда он хочет ехать, далеко ли это, надолго ли уедет, какого зверя привезет, где спят белые медведи и прочее. Ее все интересовало, и, бывало, когда наступит теплое время, вскроется море, прилетят гуси, зашумят с гор ручьи, он никак не может от нее отвязаться, берет ее с собою и везет в санках к морю, посадит там в лодочку и ездит с нею целый день по заливу, стреляя тюленей, гоняясь за водяной птицей, а она спокойно сидит себе в лодочке, следит за всем своими черными бойкими глазками и даже дом и мать забудет.
Таня ездила с отцом и в горы, когда он промышлял там оленей. Она даже, не боялась оставаться там одна, когда отцу нужно было, подсмотревши оленей, оставить с ней собак с санками, а самому ползти, подкрадываясь к зверю. Однажды, когда Таня так оставалась с собаками, а отец ее ушел стрелять оленей, собаки, увидя последних, не выдержали, бросились от девочки, вырвали у нее вожжечку и убежали, оставив ее совершенно одну в горах. Она и тут не испугалась: залезла на большой камень, набрала камешков, стала ими играть и заснула. Отец ее очень перепугался, когда не нашел на месте ни дочери, ни собак. Помчался в горы, и там ее нет. Собаки убежали версты за три, и он их переловил, а Тани все нет. Только вечером нашел он ее на камне и увез домой.
Когда мы кончили разговоры и собрались домой, моим ямщиком на обратный путь оказалась Таня. Она проворно выправила собак в лямках, взяла длинный шест, крикнула собакам, те вскочили, бросились за первыми санками; она на бегу присела на передок, и мы понеслись с ней в сумраке ночи, оставляя снежный вихрь позади санок.
Только теперь я мог рассмотреть, какой лихой, живой человек эта девочка: она ловко правила собаками, быстро справляясь с ними на раскатах, и те, чувствуя над собой ее длинный покачивающийся шест, зная ее руку, летели вперед во весь собачий дух, так что я держался обеими руками за санки.
И на каждом толчке раската, на каждом нырке сугроба только побрякивали ее медные цепочки, шуршали бусы и развевались по ветру ее ленточки… Я не мог налюбоваться на удаль этой молодой девушки, которой, казалось, больше доставляло удовольствия быть в роли мальчика, возиться с ружьем, чем сидеть дома, играть в куклы и забавлять маленьких братьев и сестер.