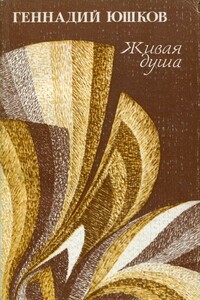Башкирцев поглядел на дорогу позади станции. Возле дороги чернеет что-то высокое, массивное.
— Что это у вас там стоит? Еще утром приметил.
— В двадцать первом году ставили, — объяснил Горшенин. — Память о красногвардейцах, о Феде Воробьеве, о других. Из старых стальных плит поставили. Надо, чтоб устьевец стоял на плитах. Люди говорят, чтоб как живой стоял.
Последние минуты ожидания. Друзья задумчиво посмотрели в ту сторону, куда днем пронесли Бурова, словно еще раз молчаливо простились с ним, невозвратимым и близким, За мостом показались фонари, стала подрагивать земля под ногами. Остановился ночной поезд на Ленинград.
Пожали Горшенину руку, расцеловались с ним. Он зашагал по платформе рядом с уходящим поездом и смотрел и смотрел вслед последнему вагону.
И СНОВА СВЕРШИТСЯ ЧУДО
(Конец эпилога)
Он стоит, Василий Горшенин, на этом же самом месте восемнадцать лет спустя, человек из старшего поколения устьевцев, уже старик, седой, с мягкими чертами лица.
Первый тихий день после девятисот дней осады. Рядом нет больше смерти.
Четыре поколения устьевцев стоят в этот день там, где начиналась линия обороны. Немного их. Остовы домов, черные печи, безлюдье.
Разрушен город-спутник. Снежная пустыня вокруг. Рельсы под обледенелым снегом, и может показаться, что не проходила здесь магистраль на Москву.
Два года тому назад разведчик принес записную книжку убитого врага, и в ней прочли:
«…Впереди завод, который называется Устьевским. Он еще работает. Это непостижимо. Но, разумеется, скоро он перестанет работать навсегда».
На четверть века вперед здесь, как и всюду, где прошла война, собирались убить жизнь. Лишь через четверть века дано будет ей возродиться, нет, не жизни, а робкому прозябанию несмелого человека, которому не забыть о страданиях самой жестокой из всех войн.
Таков план врага. Потому и могли появиться эти строчки в записной книжке, которую принес весной 1942 года разведчик.
На постаменте из старых броневых плит бронзовый устьевец смотрит в ту сторону, куда вчера ушел рабочий батальон.
И это не только память о давно погибших отцах, о тех, кто погиб в годы новой войны. Пусть это будет напоминанием о непреклонной воле устьевца.
Нет, нет и нет!
Он стоит на снегу, под которым выжженная земля, Василий Горшенин, самый старый житель разрушенного города-спутника.
Он, ветеран великой партии, помнит лучше, чем другие, как росла сила устьевца, как она, сливаясь с силой всей страны, становилась способной на чудеса.
Чудо свершится и теперь, на его глазах.
Ленинград, 1934—1939, 1947
Москва, 1960