Свое и чужое время - [15]
Учуяв шаги Синего, служитель ночлежного дома, косоротый Сашка, забормотал за печью, препираясь с женой.
По горнице перекатывался жаркий дух, лишая нас сна.
— Вот Синий Дусю тут поминал, — начал Кононов, должно быть и сам подбитый к откровению. — Вот он все тут о Дусе, а ее, может, этим часом кто-нибудь своим теплом припекает… Все бабы без разницы — что твоя, что моя… Такая природа их сучья! — Кононов весь набухал ненавистью к такой природе, заглядывая в тайное тайных своей души.
— Слышишь? — обратил я внимание Кононова на шум за воротами.
Кононов, не уловив лукавства, прислушивался.
Кто-то без устали ходил под окном по снежному насту.
— Метель! — сказал Кононов и вернулся к рассуждению о женщинах, тихонько подталкивая рассказ на себя, приправляя его, в отличие от Синего, густою и горькой иронией. А дойдя до курьеза с гречневой кашей, лихо тряхнул вихром. — Суд закончил слушание и предоставляет мне возможность публично покаяться. Не хотите ли, подсудимый, что-нибудь сказать напоследок? Как же, хочу, говорю! И, отыскав глазами серое пятнышко, Верку, кричу во весь голос: «Верка! Хочу гречневой каши!» — Зал загудел… заерзал… Хохочет, улыбается, становится на глазах живой плотью. Вижу, серое пятнышко жалко свернулось, сделалось маленьким, плачущим. Сломалась ее комсомольская прыть. А я как заладил — Верка, хочу гречневой каши, — так и кричу! Зал от веселья дохнет: во, мол, Серега дает напоследок… Вот его как наградили, а он народ потешает… В общем, мент, который стоял за спиной, получает сигнал, давит мне на плечо, сиди, мол, помалкивай, развлекать будешь, видно, иного зрителя…
— С чего это тебя потянуло на кашу?
Кононов вслепую пощупал пятернею бутылку, обхватил ее, но к губам не поднес.
— А-а… какая там каша… Это я ей за то, что забыла, с чего у нас начиналось! Мне тогда исполнилось восемнадцать. В армию скоро идти. А Верке шестнадцать. Зашла как-то утром. Воскресенье. Прямо к завтраку угодила. Ели гречневую кашу. Крупу тетя Нюра прислала из Лук. Братья уже свое слопали, а я тихонько смакую. Отправлю в рот пол-ложки и давай молотить. Тут-то и Верка явилась, а мамаша моя: «Кашу будешь?» — «Буду», — и садится напротив меня. Мамаша моя чуть не плачет… Каши-то больше нету. Братьев как ветром сдуло. А мамаша мне: поделись, мол.. Дала она Верке ложку, а я своей провел в миске бороздку, мол, что ближе к тебе — твое, а что ко мне — мое! Так и едим эту гречневую рассыпную, на воде, без масла и молока Верка поначалу придерживалась бороздки, а потом, гляжу, нарушает. В общем, загребает с моей стороны. Щеки надуваются, а глаза хохочут от озорства. Думаю, дам ей подзатыльник и никто не увидит. Мать вышла. Стало быть, в самый раз. Да смекнул, что от этого не выиграю ничего. Придвинулся к Верке лицом и говорю: «Отсыпь-ка мне каши!» — и лезу ближе. А она не противится, и пошли мы целоваться, замирая от восторга и нежности. Тут застукала нас мамаша… Как треснет меня моею же ложкой, чего, мол, девочку глупостям учишь… С того раза мы с Веркой ни разу гречневой каши вместе не ели, а про тот случай не забывали. Пять лет мы с Веркой дружили, а на шестой поженились. Брат мой, который постарше, к своей бабе жить переехал. У нее своя комната на Тимирязевке была. Младший — Димка — уехал к тете Нюре в деревню. У той дочка на выданье удавилась… Мой отец и муж тети Нюры, дядя Жора, свояками приходились друг другу. Оба в тридцать шестом загремели.
Насторожившись, я прислушивался к шагам под окном, к беспокойному хрусту…
— Да это метель лупит по ребрам избы… — успокоил меня Кононов и заглянул в лицо Синему. — Ты что, как таракан, глазами по столику бегаешь?
— Жрать охота, — лениво отозвался Синий и, подцепив что-то малиновое из остатка в тарелке, мерно задвигал челюстями.
— После ремесленки на завод определился… Учили так себе, несерьезно. А вот на заводе пристроили к инвалиду, так тот обучил слесарному делу! Работаю, в армию не берут, из года в год переносят. А год-то уже пятьдесят второй. Мне уже двадцать четвертый идет. Живем с Веркой в смежной с мамашиной комнате, задыхаемся в страсти, света белого стесняемся и лампочку не включаем, неловко. Верка очень стеснительная была… В общем, привыкали друг к дружке. И вот тебе на!.. Жили тогда возле Новослободской, в Косом переулке. Верка с Пашкою, моим другом, в одном доме, я в другом, но в одном дворе. Пашка первый открутил эти вешалки и отволок домой. Потом и другие стали откручивать. И все по паре… Оставалась одна. Так и зацапали на проходной! Давай обзывать и так и эдак… Все возмущаются, и даже те, кто благополучно миновал проходную… Припаяли, в общем, и отправили с пересыльного. Народ всякий. День везут, ночь везут, а России конца и краю не видится! Душе тесно, хочется на простор, пусть лагерный, но скорей… Чего уж говорить, все знают, что это за изюм. Год промаялся, а потом притерпелся. С клопами да вшами. Вроде полегче. Писать никому не пишу — осерчал. Правда, мамаше иногда пару слов. А она мне вязаные носки пришлет, еще кой-чего, да все отбирают — народ, мол, выносливый, не подохнете… И не передохли! Тут амнистия, да у меня нарушения были, и не коснулось. Сказали, корми дальше вшей, а тогда будем решать что к чему. На шестом году Верка выклянчила, видно, адрес. Спрашивает: ждать или нет? А у меня к ней и жалость, и ненависть… Предала нашу гречневую кашу! Думаю, пусть себе поступает как хочет, не отзовусь! Развернул письмо, читаю — роман, не письмо. Правда, местами черной тушью аккуратно целые строчки вычеркнуты. Раскаивается за свою дурость… Мол, украшения эти и у Пашки имеются, а он живет себе и горя не знает… А в конце: спасибо, мол, комсомолу, что он глаза на правду открыл! И просит простить дурость, потому как только со мной хочет есть гречневую кашу… Упал я на нары и захрюкал от боли, от своего и чужого свинства… Писать, однако, Верке не стал. Думаю, чего уж — каша небось давно уж прокисла! А вот упоминание о Пашке за живое задело. Народ за это время успел оплакать и осудить Сталина! Стукнуло тридцать один, и я снова родился — вышел на свет! Думаю, все позабуду, назло всем буду жить гордо! Спешу в Москву, начинать новую жизнь. Залетаю под вечер в родной Косой переулок. Дворовая мелюзга подтянулась. С замиранием души — прямо к двери. Подходит мамаша, открывает, рыдает навзрыд. В комнате кровать свою вижу. Смежную, в которой мы с Веркой привыкали друг к дружке, заколотили, а из коридора пробили. В общем, медсестра в ней какая-то поселилась. Поплакала мамаша, все по порядку порассказала, а напоследок: не ходи, просит, к Верке, чужая она нам… Наутро рванул я к старшему брату на Тимирязевку, не обрадовался. Зачуханный, лицо немытое, пьяное. Жена того хуже — усохла, ужалась, сама, видно, пьет. «Зачем же ты, — спрашивает, — вернулся домой? Засекут в квартире, да и мамашу выселят!..» — «Не выселят, — говорю, — нет таких прав!» Он улыбается: «Узнает Пашка, что вернулся ты, — выселят… Он теперь участковый и к Верке примазался… Разменялась она с родителями, одна на Покровке…» Я расстроился. Стал домой приходить ночами. Подойду со своим ключом да на цыпочках, а чуть свет… Прибился тоже в Дорохове к рукавичникам, с Синим там познакомился. Он меня по соседству с Кушканом прописал. А жить негде. Запил. Свои пропью, угощает Синий. Тут дядя Ваня с Гришкой с цеховскими ребятами подружились. Жили по той же дороге, в Давыдовке. Руки у них всех умелые — все наладчики. Наладят машинки, а там и гужуют с нами. Приехали как-то под вечер. Повозились с машинками, чтоб ниток они не тянули — не рвали, а за это Парамон, наш бугор — его поезд потом сбил, — их угощает. Выпили и мы с Синим. Зима. Вечер молочный, стало быть, ранний. Домой меня потянуло. Добрался, вставил тихонько ключ, открываю, а он, Пашка, уже ждет, на табурете у телефона сидит. Гладенький, шею нажрал. При форме. В звании младшего лейтенанта. Заработал, пока я там вшей своей кровью откармливал. «Здорово, Пашка!» — говорю, вроде в дружках ходили, в одном дворе живем, ремесленку опять же вместе заканчивали. Только я попался, а он — нет! Пашка сидит как сидел и говорит, мол, я вам, гражданин Кононов, не Пашка, а Павел Иванович Сухоруков! Думаю, шутит, подлец. Ан нет! Встал, обстукал все двери в квартире, пригласил всех соседей и спрашивает: «Вы этого человека знаете?» Те, конечно, хором: «Знаем!» Тогда Пашка и говорит: «Хорошо, что знаете. — И протокол составляет. Пишет сноровисто, а закончив, сует на подпись соседям: «Распишитесь, что гражданина Кононова распознали, нарушителя житья коммунального…» — «Да ты чего, Пашка, я уйду! Слышь, уйду и больше сюда не приду! Зачем мамашу-то подвергать?..» — «Не я ее подвергаю! А вы, гражданин Кононов!» — отвечает Павел Иванович Сухоруков из-за спины мамаши. Морда у Павла Ивановича круглая, жирок выкатился под подбородок, щеки точь-в-точь как у мясника. Думаю, не Пашка, а в самом деле мясник. А может, наоборот, мясник вырядился в мента? И от этой дурной мысли потянуло меня на смех. Улыбаюсь и говорю: «А вешалки-то у тебя висят, Павел Иванович Сухоруков!..» А он: «Гражданин Кононов, вы в нетрезвом состоянии… Предупреждаю, если через минуту не покинете сами квартиру, будет вызван наряд… А если еще раз обнаружу нарушение квартирного режима — пущу эту бумагу в ход…»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
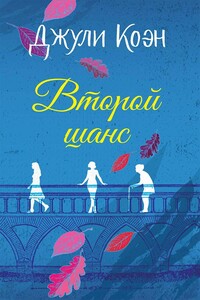
Восьмидесятилетняя Хонор никогда не любила Джо, считая ее недостойной своего покойного сына. Но когда Хонор при падении сломала бедро, ей пришлось переехать в дом невестки. Та тяжело переживает развод со вторым мужем. Еще и отношения с дочкой-подростком Лидией никак не ладятся. О взаимопонимании между тремя совершенно разными женщинами остается только мечтать. У каждой из них есть сокровенная тайна, которой они так боятся поделиться друг с другом. Ведь это может разрушить все. Но в один момент секреты Хонор, Джо и Лидии раскроются.
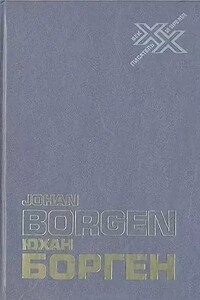
Юхан Борген (1902–1979) — писатель, пользующийся мировой известностью. Последовательный гуманист, участник движения Сопротивления, внесший значительный вклад не только в норвежскую, но и в европейскую литературу, он известен в нашей стране как автор новелл и романов, вышедших в серии «Мастера современной прозы». Часть многообразного наследия Юхана Боргена — его статьи и эссе, посвященные вопросам литературы и искусства. В них говорится о проблемах художественного мастерства, роли слова, психологии творчества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
