Свое и чужое время - [14]
Кононов при упоминании Кушкана поерзал, должно быть, восставая против сословия.
— …Потаскал меня по ментам этот Кушкан, со всеми за ручку здоровался, как собачка собачку, обнюхивал, смеялся глазами. Неприятный тип, однако помог, проколол, деньжат за три месяца вперед запросил. Спросил, где искать, если появится надобность, и все такое, что неприятно. Ну, я все же сказал. Даже адрес художника дал. К нему-то захаживал часто. Он все больше сидел на порожке дачи и не спеша мыл кисти в растворе. Разложив их на терраске сушить, звал в дом коньяком «баловаться». Пил и сам иногда по-черному… Ну, говорит, Микола, покеросинили ж мы с тобой давеча, и сердито выпуклый лоб наморщит — умный дядя, — и про себя глухо кого-то ругает, расхребетили, говорит, русского человека.
Кононов потянулся к бутылке, отпил, булькая. Уронил голову на подушку, матерно в нее выдал.
Синий, переждав его приступ, снова двинул рассказ медленным шагом.
— Микола, раз говорит, помоги деликатное дело сообразовать, за помощь, мол, заплачу. Надо, говорит, прах родителей сюда, на местное кладбище, перенести. Лучше к ним буду наведываться, чем эту гадость глотать, от которой лучшие люди мерли в России. Поехали. У него «Победа» с тентом была, уже старая — дребезжит, как лоханка, но катит ничего, с ветерком. Родители похоронены в Балашихе, считай, в самом центре. Художник узнал, что кладбище через несколько лет ликвидируют, а на месте его что-то построят. Не хочу, говорит, Микола, чтоб на костях их сидела эта махина! Разгородили мы захоронение. Ограду он свез, а мне деньги сунул, пойди, говорит, пообедай. Ну, пошел я в столовку. Захожу, а на раздаче девчонка в чепце. Она сразу мне приглянулась. Глядит темными сливами. Лицо детское, неотступное. Гляжу, значит, и не вспомню никак, зачем сюда заглянул. Народ — туда-сюда! Она и сама — нальет тарелку и смотрит. Пошел я мыть руки. Вернулся. Хочу сказать слово, а оно застревает. Поняла она, что я так ничего и не скажу, и спрашивает: «Что будете?» А я молчок, хоть убей! Наливает она тогда молочного супу, а на второе — гуляш. Молочный суп я с детства любил. Второе менял на него, чтоб еще слопать тарелку. Думаю, вот хорошо. Помаленьку оттаивать стал. В кармане пусто, да на душе густо. Стал дважды на дню в столовку ходить. Вот, думаю, пойду и скажу, что дорогой мечталось. А не могу. Погляжу — и молчком обратно. Хожу день, другой, хожу неделю. А она выйдет, глянет пронзительно и на первое суп молочный нальет, а на второе гуляш положит. Ем и смотрю. В голове жарко, и в горле слова так и плавятся… В общем, трескаю, как говорится, морду нагуливаю, а более ничего. Начали мы могилки раскапывать. Сперва отцову. Сразу после войны помер от ран… Художник сердитый такой, лоб наморщит, слезы стоят в глазах, а лопату не отдает. Здесь, говорит, я сам… Тихо-тихо выгребает суглинок, совочком подкапывает. А над ямой, над самой бровкой белая холстина разостлана. Боюсь. Думаю, вот-вот гроб покажется… А он сгнил — одна щепа, как кость, в суглинке торчит, все в нем перемешалось. И вот, Серега, череп… Маленький. Вместо глаз — пустота… Художник вытер череп платком, рукой погладил и в слезы ударился. Плачет и косточки на холстину к черепу приобщает, снова в них ковыряется… Я бегом в столовку. Выворачивает меня наизнанку, рвет в сердце постромки. Увидела моя в окно, что я такой вот, и стрелою ко мне. «Что с тобою, миленький? Кто это сделал?» — платочком мне лоб утирает. Просидел я весь день возле столовки, а есть не могу. Курю и на художника поглядываю. Жалко его. Он ничего не предпринимает, сиди, мол, ежели худо… Я поднялся, пошел к нему через силу. Холстину он узлом завязал, положил на сиденье сзади, два ведра черно-красной землицы принес. «Спасибо, Микола! Я один бы не справился! Мужик ты, — говорит, — настоящий!»
Стояло лето.
Мы с художником после этого дела крепко накеросинились. Сидим и пьем молчком аж до утра. Через четыре дня поехали еще раз. Теперь уж мамашу копать… Считай, недели две ездили. Ездили и когда могил уже не было. Ямы закидывать. Вроде бы все. А художник голову свесит и глядит прямо в землю. А мне вроде бы радоваться грех, да, прости господи, весь одурманен счастьем, оттого что снова Дусю увижу, а может, и словцом переброшусь. И впрямь! «Знаешь что?» — говорю. «Знаю, — смеется. — В кино пригласить вроде хочешь…» Сходили. Показывали про свинарку и пастуха, а может, наоборот, уж не помню. Помню, весь фильм пропели они вдвоем, а в конце поженились… По правде сказать, мы плохо смотрели, все больше друг к дружке льнули, за что на нас сзади шикали. Ну, что там тянуть, подружились…
— Дак ты не тяни! — в нетерпении бросил Кононов, сердито вертя глазами, облитыми малиновым светом.
— Работаю в цеху, рукавички крою, а сам дождаться не могу, когда другая смена подменит, чтобы к Дусе смотаться. Жить вроде стало интереснее, легче. Кушкану аккуратно деньги вожу, отвечаю на вопросы его хитроумные. Не один теперь — и не страшно! Живу у художника, кое-чем помогаю. Случается, поворотит меня спиной к речке, стянет рубашку и малюет карандашами, потом красками, дак картина выходит. Да вот однажды, когда художника на даче не было, вваливаются менты и говорят: собирайся! И пошло: кто? зачем родился?.. ограбить его хотел или мстил?.. «Не хотел! — отвечаю. — То есть — не знаю!» — «Что не знаешь? Зачем угрохал?.. Признавайся! Там вот свидетели в коридоре сидят… Тогда будет хуже…» Подержали три дня и на улицу выгнали. Угостили пинком напоследок, и так обидно… Через этот пинок расхотелось и к Дусе ехать… Потом-таки поехал, не утерпел… Она как увидит меня в окно — на улицу! Бежит и плачет: «Разве ж так можно, миленький? Разве ж так можно?..» — «Да какой я «миленький»? Уголовник я, уголовник!» — отвечаю и тикать от нее обратно. Да она догнала, хватает за руку, удерживает. Ты, говорит, судьбой мне назначен… Вместе огорчаться, вместе и радоваться нам бог положил… Зря, мол, не рвись, не отпущу… Я, конечно, одумался. Походил-побродил по поселку, на пруд пошел глядеть, как пенсионеры плотвичку из него тянут. А вечерком, как уговорились, к Дусе. Жила она с матерью, состарившейся не по годам, в комнатушке, чуть большей, чем моя прежняя на Островского. Гляжу — две кровати, а между них занавески, наполовину раздвинутые. «Здрасьте, мамаша, — а сам к стене жмусь, неловко. — Дуся меня пригласила…» — «Вижу, — отвечает, — что Дуся… — Старушка неприветливая, губами сердито чмокает. — Коли, — говорит, — пригласили, так будьте, — говорит, — любезны садиться! Сидючи время быстрее катится…» Вредная женщина! Не понравилась, но терплю. Не к ней пришел, к Дусе. Сажусь, а Дуся носится, на мамашу просительно выстрелит, при случае что-то шепнет. Та ей в полный голос: «Взрослая! Небось сама себе голова! А знай, что я противная этому делу… Хоть бы в Никольское, что ли, съездили да на боженьку поглядели, дозволит он вам срамоту али нет…» Разговор мне непонятен, а нутром чувствую, что и меня он касается. Попили чайку с кагором, потом — еще, но уж без кагора. Время склонилось за лес, темень упала. Пора и мне честь знать. Засуетился я, за угощение благодарю. А тут мамаша входит в Дуськину половину с подушкой. Дуся мигом на кухню. А мамаша в полный голос: «На этой ты будешь спать, на той — Дуся!» Гляжу на подушки, и стыд пробирает. Осерчал я на Дусю. Думаю, вот потаскушка! Стиснул зубы, жду, что, думаю, дальше! Терять-то мне нечего! А за Дусю обидно… Мамаша зашторила две половинки и, видать, легла у себя, свет погасила. Дуся над кроватью ночник засветила, а в глаза мне не смотрит. Да и я головы не поднимаю. «Микола, спать уж пора», — и свет выключает. Признаться, с бабами давно не водился, а тут — на тебе баба! Зашуршала Дуся, и я то же самое. Лежим и помалкиваем. А там, на той половинке, мамаша молитву шепчет, богородицу поминает. Потом притихла. А молитва, как картофелина, в ушах у меня печется, будто бы на крутом откосе детдомовского огорода… Пролежали до утра, но уважения к себе не потеряли да слуха мамашина не осквернили. «Доброе утро, мамаша!» — сказал я на рассвете. «Здравствуйте, коли доброе!» — И засуетилась, заспешила в дорогу. Я и сам засобирался. Тут Дуся вцепилась, не отпускает, маманя, говорит, сейчас к сестре пойдет в Салтыковку. И впрямь мы с Дусей на пару остались, оробели пуще прежнего от свободы… Тычется в грудь мне и говорит: ты-де богом мне определен. — Синий грустно рассмеялся. — И сейчас не понимаю, что такое оно — первородный грех… А в Дусе вместо ожидаемой бабы честь сбереженную встретил… Понесла она и родила дочку — свет жизни! А только прежней радости мы друг к дружке лишились… Поди разберись, кто виноват. Живем — каждый для себя, хоть все вместе это семьей прозывается… — Синий умолк, затем встал, вышел в сени, принес оттуда воды в большом деревянном ковше.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
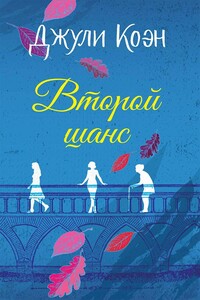
Восьмидесятилетняя Хонор никогда не любила Джо, считая ее недостойной своего покойного сына. Но когда Хонор при падении сломала бедро, ей пришлось переехать в дом невестки. Та тяжело переживает развод со вторым мужем. Еще и отношения с дочкой-подростком Лидией никак не ладятся. О взаимопонимании между тремя совершенно разными женщинами остается только мечтать. У каждой из них есть сокровенная тайна, которой они так боятся поделиться друг с другом. Ведь это может разрушить все. Но в один момент секреты Хонор, Джо и Лидии раскроются.
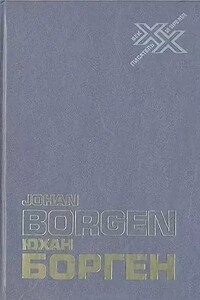
Юхан Борген (1902–1979) — писатель, пользующийся мировой известностью. Последовательный гуманист, участник движения Сопротивления, внесший значительный вклад не только в норвежскую, но и в европейскую литературу, он известен в нашей стране как автор новелл и романов, вышедших в серии «Мастера современной прозы». Часть многообразного наследия Юхана Боргена — его статьи и эссе, посвященные вопросам литературы и искусства. В них говорится о проблемах художественного мастерства, роли слова, психологии творчества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
