Свободный танец в России. История и философия - [3]
Российские последователи Дункан усвоили сполна и ее философию танца, и мессианский пафос. Стефанида Руднева, Людмила Алексеева и другие, как их тогда называли, «босоножки» или «пластички», занимались движением не столько для сцены, сколько — по выражению первой — для воспитания «особого мироощущения» или — по словам второй — с «оздоровляющими и евгеническими целями»[20]. Направление студии «Гептахор», названное ими «музыкальным движением», было адресовано как взрослым, так и детям, а «художественное движение» Алексеевой — всем женщинам.
На какое-то — пусть краткое — время движение стало экспериментальной площадкой не только в искусстве, но и в науке. В 1920‐е годы в Российской академии художественных наук (РАХН) возник проект создания единой науки о движении — кинемологии, куда, кроме танца, должны были войти разнообразные предметы исследования, от трудовых операций до способов передачи движения в кинематографе. Хотя этот замысел, как и проект Высших мастерских художественного движения, не был осуществлен, он вызвал к жизни несколько интереснейших начинаний. В частности, в РАХН образовалась Хореологическая лаборатория, которая устроила ряд выставок по «искусству движения». Исследователи утверждали, что движения актера в театре и рабочего на заводе подчиняются одним законам.
Для отработки движения практичного и экспрессивного Всеволод Мейерхольд создал свою биомеханику, Николай Фореггер — «танцы машин» и «танцевально-физкультурный тренаж», Ипполит Соколов — «Тейлор-театр», Евгений Яворский — «физкульт-танец», а Мария Улицкая — «индустриальный танец». Так появился новый танец, в отличие от «классического» (читай: старого) балета назвавший себя «современным», или «танцем модерн»[21]. В 1920‐е годы в России его развитие шло параллельно с другими странами Запада, где новый танец сложился в целое направление со своими стилями и ответвлениями: Ausdruckstanz (экспрессивный танец) в Центральной Европе, natural dance (естественный танец) в Англии, modern dance (модерн) в США. Там он продолжался и совершенствовался и в 1930‐е годы, и дальше. В нашей стране, к сожалению, развитие нового танца было затруднено, а потом вообще прекратилось. После «Великого перелома» конца 1920‐х годов ему лишь чудом удалось уцелеть. Но за годы своего существования студии пластики, курсы ритмики и школы художественного движения успели принести свои плоды. А сам танец прошел путь от стилизованного под античность — босиком и в туниках — к физкультурному и конструктивистскому.
Конечно, эта книга не появилась бы без помощи множества людей. Я благодарю за предоставленные материалы Татьяну Акимову, Инну Быстрову, Сергея Пронина, Наталью Тамручи, Алексея Ткаченко-Гастева, Татьяну Трифонову, Марию Туторскую и Российский музей медицины ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, Музей МХАТ, Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. За науку и искусство танца я признательна Аиде Айламазьян, Мег Брукер, Валентине Рязановой, Татьяне Трифоновой и участникам студии-лаборатории музыкального движения «Терпсихора», а также своему партнеру по танцу Роджеру Смиту.
Часть I. Воля к танцу
Глава 1. Современные вакханты
«Культура танца» — так озаглавил свою статью о Дункан и ее российских последовательницах Волошин. Он первым у нас отозвался на выступления Айседоры, первым понял и поддержал ее миссию — утвердить танец как традицию, идущую из античности[22]. Одним из первых слово «культура» в значении «cultura animi» — «культивирование», «возделывание души» — применил Цицерон. Он писал об этом в тяжелый период жизни, потеряв жену и любимую дочь. Вкладывая в свой текст ностальгический смысл, он назвал «культурой» любовь к мысли и философствованию — то, что было у греков и чего он не находил у римлян. Таким образом, культура в изначальном смысле — нечто ушедшее, ностальгический, далекий идеал, который можно описывать и о котором можно мечтать, но невозможно реализовать, как нельзя вернуться в Золотой век Эллады. В таком понимании культура — это регулятивная идея, недостижимая цель, указывающая и освещающая нам путь[23].
Айседора Дункан стремилась поставить свободный танец, «дионисийскую пляску» над балетом — который к тому времени находился, как считали многие, не в лучшем состоянии. «Может ли кто подумать, что наш балет отражает в себе высший цвет современной культуры?» — риторически вопрошала Айседора. Связав танец с античностью, она хотела вызвать серьезное к нему отношение, надеясь, что «будущий танец действительно станет высокорелигиозным искусством, каким он был у греков»

В книге история психиатрии рассматривается через призму особого жанра медицинской литературы — патографии, или жизнеописания знаменитостей с точки зрения их болезней, мнимых или настоящих. В русской культуре писатель был фигурой особенно заметной — как рупор общества, символ времени или объект, на который читатели проецировали свои желания. Не удивительно, что именно писатели привлекли внимание психиатров и стали их заочными пациентами и героями (или антигероями) патографий. Немало медицинской литературы посвящено классикам — Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Толстому, Гаршину и многим другим писателям и поэтам.
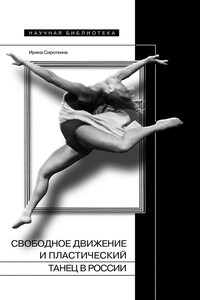
Эта книга – о культуре движения в России от Серебряного века до середины 1930-х годов, о свободном танце – традиции, заложенной Айседорой Дункан и оказавшей влияние не только на искусство танца в ХХ веке, но и на отношение к телу, одежде, движению. В первой части, «Воля к танцу», рассказывается о «дионисийской пляске» и «экстазе» как утопии Серебряного века, о танцевальных студиях 1910–1920-х годов, о научных исследованиях движения, «танцах машин» и биомеханике. Во второй части, «Выбор пути», на конкретном историческом материале исследуются вопросы об отношении движения к музыке, о танце как искусстве «абстрактном», о роли его в эмансипации и «раскрепощении тела» и, наконец, об эстетических и философских принципах свободного танца.
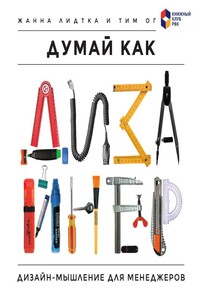
Эта книга рассказывает об одном из самых актуальных трендов бизнеса — дизайн-мышлении, или способности реализовывать идеи на практике. Ее цель — превратить понятие дизайна в практический инструмент, которым любой менеджер может воспользоваться для решения сложных задач развития. Набор новых средств включает: десять методик для объединения дизайнерского и традиционного делового подходов; словарь дизайна, переведенный на деловой язык; простые шаблоны для управления проектами, а также понятные инструкции и реальные примеры для каждого этапа внедрения инновации.
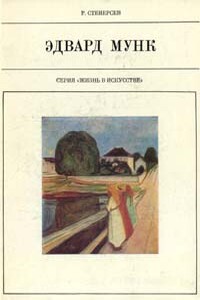
Книга Рольфа Стенерсена посвящена жизни и творчеству выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка. Стенерсен близко знал Мунка, был почитателем и ценителем его таланта, коллекционировал его произведения. Тесная дружба с художником позволила Стенерсену создать живой и правдивый литературный портрет мастера, поражающий меткостью и остротой наблюдений.После встреч с Мунком Стенерсен записывал беседы с ним, многие из которых затем были включены в книгу. Они помогают понять своеобразный, а порой и противоречивый характер искусства художника, во многом объясняют специфику его произведений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
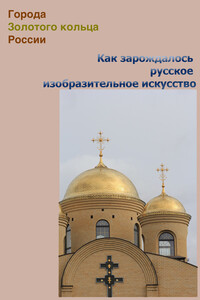
«Золотое кольцо» России состоит из прекрасных древних городов: Москвы, Сергиева Посада, Ростова Великого, Ярославля, Суздаля, Костромы, Переславля-Залесского, Владимира, других городов, занимающих особое место в истории Русской земли. Это красивейшие города, которые являются настоящими жемчужинами на карте России. Каждый такой город таит в себе множество секретов, и вписывает в историю новые имена, которыми гордятся поколения.Эта книга поможет Вам больше узнать об истории, архитектуре, достопримечательностях и известных людях разных городов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.