Светлые города (Лирическая повесть) - [47]
Хозяин тянется к папиросе Петра Ильича.
— Разве вы курите?
— Нет. Не курю.
Пес у порога, поймав на ходу муху, потягивается и чавкает.
— Крупён обли! — коротко говорит Мишель (привык, должно быть, разговаривать вслух с собакой. Она смотрит на него настороженно, покорно, распластанно).
— Спички! — приказывает хозяин.
Собака встает и, протрусив в угол бархатной иноходью, приносит ему сапожную щетку.
— Пошло!.. Пошло и глупо, — сквозь зубы говорит ей хозяин. (И прижавшись животом к полу, она уползает. Ей худо. Она раздавлена стыдом.)
Мишель спохватывается:
— Простите, пожалуйста, и… и… прежде всего спасибо, конечно. Это первое, что я обязан сказать.
— Спасибо?.. За что?
— Ну за то хотя бы, что вы пришли! Я должен с вами поговорить… Рассказать о себе… Я этого давно хотел…
— А я этого от вас никогда не требовал.
— Да… Но мне самому было нужно…
Петр Ильич выражает взглядом, улыбкой и наклоном головы полнейшее внимание.
— Вика вам ничего обо мне не рассказывала?
— Не пришлось, признаться… А впрочем, да… Что вы живете в какой-то «сторожке». Один, с собакой.
— Да нет же!.. Я то имею в виду, отчего я… Ну, о моих родителях.
— Нет. Ни слова. Но, право же, это не имеет сейчас никакого значения. То есть в том смысле… Зачем ворошить то, что для вас… болезненно… Да?..
— Пусть. Но так будет понятнее, лучше. Видите ли… Одним словом, я постараюсь коротко. Мне было десять лет. Под Новый год я поехал на рынок за елкой. А когда вернулся — двери нашей квартиры кто-то заляпал сургучом. Они были заперты. Я заорал «мама» и принялся колотить в дверь… Вы можете легко догадаться, что мне не открыли… С тех пор мне больше не пришлось войти в родительский дом. Я больше не видел родителей.
Когда я еще жил с ними… Одним словом, я посещал музыкальную школу. Собирался в консерваторию. Я лишился отца и матери, когда больше всего нуждался в них…
Пока Мишель все это говорил, пока крошил папиросу, которую дал ему Петр Ильич, а потом потянулся за новой и опять прикурил; пока он вставал, садился, Петр Ильич глядел на него пристально, не решаясь вздохнуть, не решаясь его прервать.
Это было признание. Каким бы ни было признание человека, оно требует от слушателя полной растворенности в собеседнике.
Подождал. Понял, что музыкант не собирается говорить дальше. И позволил себе кашлянуть.
Что мог сказать Петр Ильич?.. Чем мог его утешить?
Встал и тихонько пошел к окну. Постучал о стекло костяшками пальцев…
За старым деревом, которое загораживало окно, шла тропинка… Деревья стояли тихие. Все вокруг дремало от солнца и жары. Кружилась муха, пела тоненьким комариным жужжанием, ударяясь о стекла. Не нашла дорогу на волю, примолкла. И вдруг запела над самым ухом Петра Ильича. Зелено вспыхнуло ее маленькое тельце.
Вокруг был мир с его ненарушимой гармонией, теплом и светом.
— Мишель… Я ведь не ошибся, вас, кажется, так зовут?
— О!.. Вы можете называть меня Мишей… Так меня называют русские… И она…
— «Она»? Ну, что ж… Так вот, когда я слышу такие рассказы, мальчик, я испытываю… как бы это сказать… неловкость и стыд оттого, что мне чудом каким-то не досталась горбушка от этого горького каравая. Возможно, я чувствую так вот именно потому, что теперь эта участь мне не грозит… В то время такие мысли, видимо, заглушались инстинктом самосохранения. Впрочем, лично я… Я, кажется, всегда был готов к тому, что это может со мною случиться не сегодня, так завтра. И поэтому я не слишком мучался, что до поры до времени уцелел, а люди, куда более ценные и достойные, — погибают. Но теперь, теперь, когда стало ясно — сколько судеб, сколько человеческих жизней…
— Петр Ильич, я рассказал вам это не для того, чтобы вас упрекнуть или услыхать от вас, что таких, как я, много на белом свете. Горе — все равно останется горем, потеря — потерей. Сиротство — сиротством… И… если, допустим, целая армия отморозила ноги, это не значит, что не больно этому вот солдату!.. Больно. И вовсе не то ему нужно, чтобы ему напомнили: «не ты один отморозил ноги!..» Как будто он желал кому-нибудь зла, как будто может служить утешением для порядочного человека, что кроме тебя было плохо другим.
— Вы правы, Миша. Вы просто не так меня поняли. Успокойтесь, пожалуйста… Поймите, бывает такое горе… Не знаешь, как и утешить., как тронуть это…
— А я вовсе не ждал от вас утешения. Я только хотел, чтоб вы знали. То, что я не скрипач, которым надеялся стать… Я не родился с пристрастием к ресторану! Я учусь. Я буду учителем. Вот и все! Это я и хотел вам сказать тогда. И вовсе моя труба — не признак пошлости и любви к легкой жизни, в которой вы меня заподозрили.
— Да что вы! Мне это и в голову не пришло. Мне было несимпатично другое… Но это сейчас не так уж важно… Если я вас задел, то готов извиниться. Я не желал вас уязвлять.
— Несимпатично? Небось если б я стоял перед вами со скрипкой… Или был Гроттэ… Изобретателем Гроттэ — тогда, тогда…
Петр Ильич добро и мягко смотрел в растерзанные глаза юноши.
— А откуда вы, собственно, узнали о Гроттэ?
— От вашей Вики.
— Ну и ревнивы же вы! Не будьте ребенком, Миша. Это смешно. Разве счастье дочери — дело отцовского честолюбия?! Я одного хотел для нее: хорошего человека. Вам трудно это понять, — вы молоды. Постараюсь как старший, как мужчина с мужчиной… Но — предупреждаю — вполсилы ни разговаривать, ни думать не могу. Быть может, я буду груб… Одним словом, я… я испугался за Вику… Не хотелось горчайшего для нее разочарования, которое я испытал сам. И вовсе дело не в том, что вы, — как вы изволили выразиться, — работаете в ресторации и мне якобы показалось, что это признак любви к легкой жизни. Напротив, если бы вы были, ну, скажем, стилягой… каким-нибудь рокенрольщиком деклассированным, — уж и не знаю, какой попроще бы привести пример, — я был бы много спокойней. Очевидность такого несходства с собой остановила бы Вику. Но в вас меня беспокоила ложная, что ли, значительность… Эта «многозначительность» могла ввести мою дочь в заблуждение… Сегодня я действительно многое понял. Даже то — почему вы больше страдаете от уязвленного самолюбия, чем из-за девушки, которую, казалось, не желали терять.

Эта книга о первой юношеской безоглядной любви, о двух современных глубоко противоположных характерах, о семнадцатилетней девочке-девушке — противоречивой, поэтичной, пылкой, лживой и вместе с тем безмерно искренней. Второй герой повести — будущий архитектор, человек хотя и талантливый, но духовно менее богатый.Написала повесть писательница Сусанна Георгиевская, автор многих известных читателям книг — «Бабушкино море», «Отрочество», «Серебряное слово», «Тарасик», «Светлые города», «Дважды два — четыре», «Портной особого платья» и др.В новом произведении писательница продолжает разрабатывать близкую ей тему судьбы молодого человека наших дней.

Рассказ Сусанны Георгиевской «Люся и Василёк» был опубликован в журнале «Мурзилка» №№ 8, 9 в 1947 году.

Книга о советской школе, об учениках и учителях.«Самый дорогой и самый близкий мой друг, читатель! Ни с кем я не бывала так откровенна, как с тобой. Каждый замысел я обращала к твоему сердцу, считая, что ты не можешь не услышать искренность волнения, которое я испытывала, говоря с тобой о тебе. И о себе». Повесть о дружбе, о чести и верности, и, конечно, о любви…

Журнальный вариант повести С. Георгиевской «Бабушкино море». Повесть опубликована в журнале «Пионер» №№ 1–7 в 1949 году.«Бабушкино море» — повесть о первой встрече маленькой ленинградки, шестилетней Ляли, с ее замечательной бабушкой, бригадиром рыболовецкой бригады. О зарождающейся любви и уважении к бабушке — Варваре Степановне, о труде и отваге советских рыбаков, о море, траве, ветре, деревьях, небе, о богатстве и красоте мира написана эта книга.
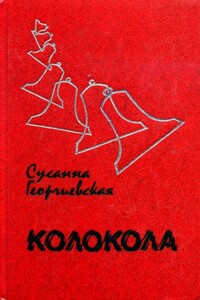
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
