Сумма поэтики - [16]
Перспектива, очерченная здесь Роб-Грийе, ведет к размыканию и, в пределе, полному отказу от какой бы то ни было знаковой системы, заданной символическим порядком. Вещи предстают «нагими», отрезанными от своего значения, в модусе так-бытия, излучающего чистую длительность, состояние длящегося присутствия. Шамшад Абдуллаев, житель окраины (и вместе с тем – средостения, перекрестка цивилизаций), наделяет это присутствие томлением, дрожью, затаенной пульсацией таинственной эпифании, тем пронизывающим трепетом, который, по преданию, предшествует явлению «Бога мест» и которому русская поэзия будет обязана отныне своим обновлением.
Сотериология Елены Шварц[37]
Выход двухтомника Елены Шварц не только закрепляет статус классика за этим замечательным поэтом, но и дает повод поразмышлять об особенностях ее – далеко не классичной – поэтической системы.
Эта «неклассичность» проявляется прежде всего в ритмической организации стиха. Строгие метры у Шварц практически отсутствуют, стихотворение, как правило, не ограничивается каким-то одним, пусть и варьируемым, размером, но представляет собой разноголосицу, конгломерат размеров и ритмов. При чтении «с листа» прерывистый интонационный рисунок удается уловить далеко не сразу. Трудность внутреннего скандирования усугубляется, с одной стороны, графическим исполнением (вплоть до конца 80-х годов Шварц редко использует привычную строфику, скажем – деление стиха на катрены); с другой – размытостью, несовпадением синтаксических, просодических и графических границ; наконец, постоянной сменой – в пределах одного стихотворения – системы рифмовки. Крайне важную роль в такой партитуре играют контрапункт, перебои ритма, цезура.
Шварц – виртуозный мастер полиритмии, техники, восходящей к русской силлабике, духовным стихам XVIII века, к «Двенадцати» Блока, Хлебникову и Введенскому и во многом параллельной экспериментам начала века в музыке, порвавшей с тональностью. Сравним два высказывания. Первое принадлежит Адорно: «Вспомним хотя бы Пять пьес для струнного квартета, ор. 5 Антона Веберна – они сегодня сохранили всю свою свежесть, а технически их никто не превзошел. <…> Композитор порвал в них с тональной системой и пользуется, так сказать, только диссонансами, но это совсем не “двенадцатитоновая музыка”. Неким ужасом окружено каждое из этих диссонирующих созвучий. Мы чувствуем в каждом из них что-то небывалое, страшное, и сам автор выписывает их с робостью и дрожью в сердце <…> Он боится расстаться с каждым из этих звучаний, он цепляется за каждое, пока все выразительные возможности его не исчерпаны. Он как бы страшится распоряжаться ими по собственному усмотрению и с глубоким уважением, с почтением относится к тому, что найдено им же самим»[38]. Вторую цитату можно обозначить как точный автокомментарий, самоопределение поэта: «И все же для меня предпочтительнее сложная и ломаная, перебивчатая музыка стихов (похожая на музыку начала века, но не впадающая в звуковой распад совсем новейшей). Западная поэзия не смогла найти такую и тупо и покорно, как овца, побрела на бойню верлибра (плохой прозы). Другая крайность – искусственный классицизм. Мое предпочтение – грань между гармонией и додекафонией. Я мечтала найти такой ритм, чтобы он менялся с каждым изменением хода мысли, с каждым новым чувством или ощущением»[39].
Полемическая категоричность («бойня верлибра») в данном случае функциональна: логика доказательства «от противного» помогает нам приблизиться к пониманию поэтического кредо автора. На самом деле верлибр не исключает полиритмию («сложная и ломаная, перебивчатая музыка стихов»), а, наоборот, подразумевает ее[40], свидетельством чему – тот же Хлебников, Кузмин, «Нашедший подкову» Мандельштама. Известно, насколько сложна и изощренна музыкальная структура гимнов Гёльдерлина, «Дуинских элегий» Рильке, «Кантос» Паунда, «Озарений» Рембо, поэзии итальянских герметиков или основоположника «проективного стиха» Чарльза Олсона, не говоря уже о древнееврейской и античной поэзии. Другое дело – среднестатистический, «общеевропейский» или «американский» верлибр, в котором инерция формы, установка на разговорный, «естественный» язык, гомогенный лексический ряд и монологизм приводят к стиранию границы между поэзией и прозой. Но с тем же успехом автоматизация, инфляция поэтической речи могут наступить и в рамках регулярного стиха, когда «семантический ореол», закрепленный за тем или иным метром, превращает пишущего в заложника «метронома просодии» и, соответственно, готовых культурных смыслов (примеров более чем достаточно). Иными словами, кризис перепроизводства в равной степени присущ и той и другой системе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
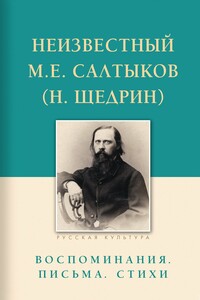
Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин) известен сегодняшним читателям главным образом как автор нескольких хрестоматийных сказок, но это далеко не лучшее из того, что он написал. Писатель колоссального масштаба, наделенный «сумасшедше-юмористической фантазией», Салтыков обнажал суть явлений и показывал жизнь с неожиданной стороны. Не случайно для своих современников он стал «властителем дум», одним из тех, кому верили, чье слово будоражило умы, чей горький смех вызывал отклик и сочувствие. Опубликованные в этой книге тексты – эпистолярные фрагменты из «мушкетерских» посланий самого писателя, малоизвестные воспоминания современников о нем, прозаические и стихотворные отклики на его смерть – дают представление о Салтыкове не только как о гениальном художнике, общественно значимой личности, но и как о частном человеке.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.
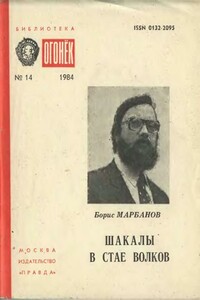
Борис Владимирович Марбанов — ученый-историк, автор многих научных и публицистических работ, в которых исследуется и разоблачается антисоветская деятельность ЦРУ США и других шпионско-диверсионных служб империалистических государств. В этой книге разоблачаются операции психологической войны и идеологические диверсии, которые осуществляют в Афганистане шпионские службы Соединенных Штатов Америки и находящаяся у них на содержании антисоветская эмигрантская организация — Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС).