Сумерки - [19]
Сесть в машину, впрочем, как и вылезти из нее оказалось делом нелегким из-за длинного шлейфа. Марилена выслушала не менее пятидесяти наставлений и советов, прежде чем нашла простое решение: подобрав, перекинула шлейф через руку и уселась.
Она даже не почувствовала, как Ливиу взял ее за руку, он виделся ей словно сквозь дымку, усталый и улыбающийся. Люди, обступившие машину, тоже улыбались и махали руками, точно провожали их на другую планету. Захлопали дверцы автомобилей. Приглушенный шум моторов, убаюкивающее покачивание на ухабах деревенской дороги. Рискуя растрепать прическу, Марилена откинулась на плюшевую спинку сиденья, слезы сами потекли по щекам. Хорошо, что Ливиу этого не видел, было уже темно, шофер не включал фары, а фары других машин светили в спину. Боже, как все долго тянулось, и пока все расселись по машинам, — их было не меньше тридцати, — успело стемнеть, и хорошо, что стемнело. Ливиу сидит с ней рядом, вот его рука, он тоже упал, тоже запрокинул голову… Неужто она больше не барышня Богдан, а госпожа Молдовану? Она крепко сжала руку Ливиу и почувствовала ответное крепкое пожатие. Дорога еще предстояла длинная, проехали только треть пути, но вот замелькали освещенные бульвары, сверкающие витрины, послышались звонки трамваев, гудки машин, свистки регулировщиков, которые повелительным жестом останавливали движение, чтобы пропустить свадебную процессию. На тротуарах теснились зеваки…
Марилене казалось, будто она после нудных школьных занятий, мучительных экзаменов, всей этой головокружительной канители вдруг получила в дар долгожданные каникулы. Она плакала от счастья, от полноты чувств, от облегчения, но только не из-за разлуки с домом, как плачут иные невесты, по мнению Марилены либо круглые дуры, либо те, кого баловали в детстве. Мариленино детство было изуродовано властной матерью: Наталия была сторонницей суровых методов воспитания, а сказать точнее, методов, которыми легче всего отравить ребенку жизнь. Чтобы уверовать в пользу такого воспитания, нужно было не иметь ни капли юмора. А у Наталии его и не было. Марилена с ужасом вспоминала, как шесть лет кряду по три раза в неделю она барабанила на рояле дурацкие, однообразные, нескладные этюды под неусыпным надзором фрейлейн Вольман. О, эта фрейлейн Вольман! Кошмар Марилениного детства: старая дева, безжизненная, бесчувственная, изнуренная болезнью желчного пузыря, желтая, долговязая, с вытянутым лицом, в неизменном черном до пят потертом платье, пахнущим анисовыми каплями. Нет, сейчас, слава богу, рядом с ней Ливиу, а вовсе не фрейлейн Вольман, а та, может быть, давно почила, царствие ей небесное; она-то прекрасно знала, что у воспитанницы нет музыкального слуха, но молчала, чтобы не лишиться заработка. Шесть лет кряду три раза в неделю бдительно стояла она над девочкой и безжалостно била ее бамбуковой тросточкой по тонким розовым пальцам, если они не попадали на нужную клавишу. И когда после шести лет тиранства фрейлейн Вольман, мать поддалась новым педагогическим веяньям и отдала Марилену учиться во французский пансион вдали от дома, девочка не знала еще, горевать ей или радоваться. Пансион назывался «Нотр Дам де Сьон» и находился в Галаце; преподавали там монахини, которые являли собой образец послушания и говорили только по-французски. Начались новые четыре года мучений: звонок будильника раздавался в пять утра, за исключением воскресенья, когда он звонил в шесть. О, этот пронизывающий посленочный холод! Утренняя зарядка в одних майках, выстуженная капелла с акустикой, как в горах, — и «Аве Мария», чарующая душу даже тем, у кого нет музыкального слуха! В огромной со сводчатыми потолками зале, где они занимались, было до жути холодно, в узкие готические окна еле пробивался серый свет утра; зато темнело здесь очень рано. Директриса поднималась на кафедру, раскрывала молитвенник и молилась, тихо шевеля губами и перебирая черные и белые бусины четок. А за черными партами, съежившись и дрожа от холода, сидели воспитанницы. У них уже начинала оформляться грудь, и в глубинах тела зарождались неясные, томительные и пугающие желания. Девочки тоже шевелили губами, и по выстуженной зале плыл размеренный, тихий, благочестивый, издевательский шепот: «ante-apud-ad-adversus circum-circa…[6]»
А под партами гуляли альбомы в бархатных пурпурных переплетах. Эти стихи, передаваемые с огромным риском из рук в руки, будили в воспитанницах школы странное беспокойство. После молитвы завтракали — хлеб с маслом и чай, — только разжигая себе аппетит, и шли на уроки. Преподавали у них монахини, набожные, неразговорчивые, чопорные, не знающие ни слова по-румынски. Только и свету в окошке, что уроки литературы, ее преподавал мужчина, молодой, красивый. Вспоминая его потом, Марилена обнаруживала, что рот у него был, как у лягушки, уши оттопырены, но он единственный во всей школе говорил на их родном языке и всегда улыбался. Этого ли не достаточно, чтобы казаться красивым, он и казался им красивее, чем Рудольфо Валентино. Бывало, какая-нибудь из учениц, набравшись отчаянной храбрости, вперит взор прямо ему в глаза, так что он покраснеет до ушей, а девицы вокруг затрепещут как молодые ивы. Но увы, счастье длилось недолго: как-то на уроке — о незабвенный день! — учитель прочел им стихи озорного Минулеску. Этот урок оказался роковым: в классе, как в любом классе любой школы, нашлась доносчица, которая наябедничала директрисе. И учитель пропал, будто сквозь землю провалился, девочки ничуть бы не удивились, если бы узнали, что он умер под пытками в подвале этой противной школы. Ах, как там было холодно, — «барышни, снимите шарфы, нужно закаляться!» — и как им всегда хотелось есть, и как долго тянулось время от завтрака до обеда, который состоял из ломтя зачерствелого хлеба, смоченного водой и посыпанного сахаром. Да и за этим приходилось стоять в очереди в десять часов утра и в пять вечера. Воспитанницы подходили к окошку, за которым виднелась сверкающая медь кухонной утвари, никогда не знавшая ароматов мяса, овощей, булькания супа. Всюду царили холод и чистота, холод доводил до отчаяния, а чистота ожесточала. Девочки мечтали выспаться, понежиться в постели, съесть хрусткий соленый огурец и сочное жаркое, приправленное чесноком.

Книга рассказов Полины Санаевой – о женщине в большом городе. О ее отношениях с собой, мужчинами, детьми, временами года, подругами, возрастом, бытом. Это книга о буднях, где есть место юмору, любви и чашке кофе. Полина всегда найдет повод влюбиться, отчаяться, утешиться, разлюбить и справиться с отчаянием. Десять тысяч полутонов и деталей в описании эмоций и картины мира. Читаешь, и будто встретил близкого человека, который без пафоса рассказал все-все о себе. И о тебе. Тексты автора невероятно органично, атмосферно и легко проиллюстрировала Анна Горвиц.

Солен пожертвовала всем ради карьеры юриста: мечтами, друзьями, любовью. После внезапного самоубийства клиента она понимает, что не может продолжать эту гонку, потому что эмоционально выгорела. В попытках прийти в себя Солен обращается к психотерапии, и врач советует ей не думать о себе, а обратиться вовне, начать помогать другим. Неожиданно для себя она становится волонтером в странном месте под названием «Дворец женщин». Солен чувствует себя чужой и потерянной – она должна писать об этом месте, но, кажется, здесь ей никто не рад.

Бич (забытая аббревиатура) – бывший интеллигентный человек, в силу социальных или семейных причин опустившийся на самое дно жизни. Таков герой повести Игорь Луньков.
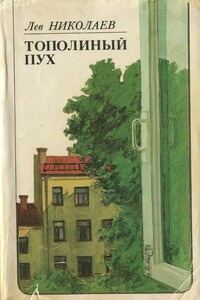
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.

Эта книга о воинах-афганцах. О тех из них, которые домой вернулись инвалидами. О непростых, порой трагических судьбах.
