Страбон - [18]
Птолемея, которого иногда (и вряд ли справедливо) называют вершиной античной географии, интересовало точное положение отдельных пунктов, а не сущность географических явлений. Его сочинение, говорил Гумбольдт, — «математическое, почти полностью лишенное физических воззрений и обработанное в сухотабличной форме». Правда, возникло оно как естественная реакция на чисто описательный подход к географии, который явно преобладал в тогдашних сочинениях.
Сухо Страбон писать не желал. Не только потому, что это не соответствовало его вкусам и интересам. Он прежде всего хотел, чтобы его читали с увлечением и пользой. Он ориентировался на образованного читателя, но не на ученого, а на практического деятеля, политика, полководца, а возможно, и на философа, историка, которым без географии не обойтись.
«Эта книга должна быть полезна вообще — одинаково для государственного деятеля и для широкой публики. Говоря о политике, я имею в виду… человека, усвоившего известный цикл наук, обычный для людей свободнорожденных или занимающихся философией». В другом месте Страбон высказывается еще откровенней: «Читатель этой книги не должен быть настолько простоватым и недалеким, чтобы прежде не видеть шара и кругов, начертанных на нем, из которых одни — параллельны, а другие проведены под прямыми углами к ним… Читатель не должен быть так необразован, чтобы не иметь понятия о положении тропиков, экватора и зодиака. Если кто-нибудь хотя бы поверхностно не знаком с этим… он не сможет понять того, что сказано в данном сочинении».
Бóльшая часть географии, утверждает Страбон, служит нуждам государства, ибо арена деятельности государства — земля и море. Правители, руководящие народами и объединяющие под своей властью разные области, должны иметь представление о всей земле: где что расположено, что известно, а что еще не исследовано, где какой климат, почва, рельеф. География полезна и в конкретных мелких делах, — когда нужно разбить лагерь, организовать засаду, совершить переход, но еще более она нужна в великих предприятиях. Незнание ее нередко приводило к позорным поражениям. Поэтому географ, как и историк, всегда должен в первую очередь заботиться о пользе и достоверности своего труда.
Но не только эту «пользу» имеет в виду Страбон. Географ не должен забывать, что он не просто ученый, но и философ, призванный наставлять читателей. Поэтому необходимо описывать не только природные особенности той или иной области, но обязательно рассказывать о нравах и обычаях различных племен, об их государственном устройстве, дабы выставлять их в качестве образцов для подражания либо, наоборот, в целях предостережения.
«Первое же и самое главное — как для научных задач, так и для нужд государства — это попытаться описать по возможности наиболее просто форму и величину той части земли, которая помещается в пределах нашей географической карты, отметив все характерные особенности». Об остальных же областях, лежащих за пределами обитаемой земли, распространяться излишне. Неоткрытые места интереса не представляют, и гадать о них незачем.
Но сводить науку только к удовлетворению практических нужд тоже неверно. В каждодневной жизни люди руководствуются привычными житейскими представлениями и вполне обходятся без выяснения сути географических явлений, например, почему восходит и заходит солнце. Не для них должен писать географ и «не для жнеца или землекопа, а для человека, которого можно убедить в том, что земля в целом такова, как ее представляют математики… В том, что географ считает основами своей науки, он должен полагаться на геометров, которые измерили землю, геометры в свою очередь — на астрономов, а те — на физиков». Без физики и математики, утверждает Страбон, невозможно описать землю. И тут же предостерегает: не надо только подменять географию сухими вычислениями, не надо применять к ней методы других наук.
Обойтись без математики и астрономии Страбон не мог. Но в них он не разбирался настолько хорошо, чтобы всякий раз выносить оценки, оспаривать те или иные положения. Поэтому он прибегает к цитатам и пользуется чужими аргументами, заимствуя их из трудов авторитетных, с его точки зрения, ученых — Эратосфена, Гиппарха, Посидония. Но в общем проблемы физической географии Страбона мало занимают. Как истинный адепт учения стоиков, он вообще не слишком озабочен неясными или спорными естественнонаучными вопросами и вовсе не стремится досконально разобраться в сути различных природных или космических явлений. Главное — информация. По возможности полная и объективная. С изложением самых противоречивых суждений. И с отказом от самостоятельных выводов.
Нравилась ли такая позиция его читателям? Нашла ли «География» своего адресата? История молчит. И молчание это — тревожно. Конечно же, политическим и военным деятелям было недосуг вникать в тонкости страбоновских описаний, и вряд ли кто-нибудь из них обратился бы к этому труду, разрабатывая планы экспедиций и походов. Ученым он почти ничего нового не сообщал. А любителю увлекательного чтения он наверняка показался бы скучным.
Своего читателя Страбон в конце концов нашел. Правда, не там, где хотел, и не того, на кого рассчитывал. Его внимательно стали изучать через… пятьсот лет. И не политики, а ученые. Правда, ученые — византийцы. Именно они по достоинству оценили колоссальный труд Страбона, который по сути дела не был замечен римлянами.
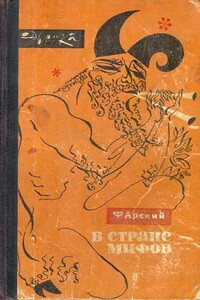
В книге рассказывается о легендах и сказочных приданиях далеких времен, и о народе, их создавшем — древних греков.
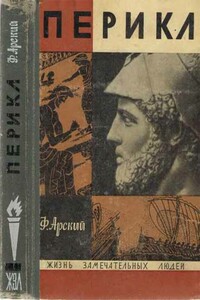
Перикл (Perikles) (около 490 до н. э., Афины, — 429 до н. э., там же), древнегреческий политический деятель, стратег (главнокомандующий) Афин в 444/443-429 до н. э. (кроме 430). Принадлежал к аристократическому роду.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.